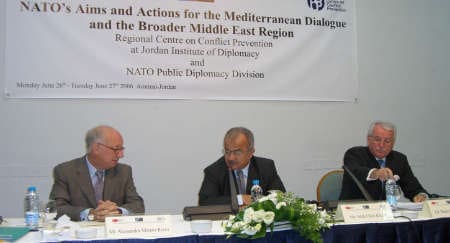Что означает «Арабская весна» для НАТО? Жан-Лу Самаан выясняет, нужно ли Североатлантическому союзу менять свой подход к арабским странам после «Арабской весны», о каких изменениях может идти речь и как преодолевать препятствия.
По прошествии восьми лет после того, как НАТО начала строить отношения со странами Персидского залива посредством Стамбульской инициативы о сотрудничестве (СИС), удалось добиться скромных, если не сказать неутешительных результатов.
Это парадоксально, даже тревожно, если учесть поистине стратегический характер СИС. Персидский залив в самом деле является критически важным для НАТО регионом и, скорее всего, останется таковым в ближайшем будущем. Он воплощает собой все самые серьезные вызовы безопасности, которые Североатлантический союз стремится преодолеть: безопасность на море, опасность распространения ядерного оружия, а также недееспособность государств.
Более того, во времена жесткой финансовой экономии в странах НАТО партнерство все больше и больше выглядит как наиболее адекватный способ распределения бремени между странами НАТО и местными партнерами, способствующий прагматическому разделению труда.
Извлечение уроков из СИС
В 2004 году исходная предпосылка для СИС заключалась в том, что в политическом отношении это партнерство не столкнется с препятствиями, которые возникли на пути программы НАТО «Средиземноморский диалог» (СД). Предполагалось, что СД будет использовать мирный процесс Осло между Израилем и Палестинской автономией в целях укрепления сотрудничества в сфере политики и безопасности между НАТО и ее соседями на юге Средиземноморья. Но после провала дипломатических переговоров вести Средиземноморский диалог стало чрезвычайно сложно.
На первый взгляд, политический климат СИС казался намного более благоприятным для сотрудничества. У партнеров не было таких спорных вопросов, как арабо-израильская проблема. И поэтому СИС задумывался по обратной схеме. Средиземноморский диалог был направлен прежде всего на преодоление политических преград путем дипломатического диалога, тогда как СИС была призвана придерживаться подхода «снизу-вверх»: укрепление практических связей между военными в качестве основы политического сближения.
Однако с самого начала НАТО столкнулась с рядом препятствий:
Во-первых, Саудовская Аравия и Оман, на долю которых приходится около 70% оборонных расходов стран Персидского залива, на присоединились к СИС. Да, действительно, Оман не отверг полностью сотрудничество с НАТО. И в последние годы было немало признаков того, что султанат отдает предпочтение более тесным взаимоотношениям.
Однако в своем отношении к НАТО Маскат проявляет прежде всего осторожность и взвешенность. На Ближнем Востоке распространено мнение, согласно которому СИС – это анти-иранский союз НАТО и Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Это поставило бы Оман в затруднительное положение, поскольку он стремится к сохранению хороших политических отношений с Тегераном.
В Эр-Рияде подобные взгляды вызывают меньшее беспокойство. Но Саудовская Аравия, являющаяся локомотивом региона, не пожелала считаться ровней небольшим королевствам Персидского залива, безопасность которых в значительной мере зависит от иностранных держав. Если Саудовская Аравия будет налаживать официальные отношения с НАТО, это должны быть специфические, индивидуальные рамки. Лидерство Саудовской Аравии в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива подчеркивает, насколько сложно будет для НАТО играть роль в регионе, не привлекая Эр-Рияд.
Второе препятствие, мешающее СИС идти вперед, заключается в том, что ей не удалось придать процессу многосторонний характер. Страны Персидского залива, которые присоединились к СИС (Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн), отдают предпочтение двусторонним рамкам, а не многосторонним. Они хотят взаимодействовать с НАТО, но самостоятельно, а не сообща.
Партнеры по СИС подошли к инициативе НАТО точно так же, как они подошли к многочисленным договоренностям и гарантиям национальной безопасности с западными странами. В силу больших геополитических расхождений и определенного недоверия между странами Совета они стремились к более тесным двусторонним отношениям для достижения своих собственных, отличных друг от друга дипломатических целей.
В результате того, что среди стран Персидского залива превалируют двусторонние соглашения об обороне, у них мало коллективных приоритетов, отношения между военными развиваются непоследовательно, а силы и средства дублируют друг друга. В связи с этим официальные лица из стран Персидского залива имеют тенденцию к игнорированию повестки дня своих соседей в отношениях с НАТО и формулированию своих собственных стратегий без учета конкретного регионального измерения.
Но это лишь одна сторона вопроса, причем НАТО, конечно, не может ее контролировать. Что касается партнерства, per se, Североатлантический совет должен, не теряя времени, пересмотреть свой подход «снизу-вверх».
Довод в пользу стратегического диалога между НАТО и странами Персидского залива
Ряд достижений в отношениях между НАТО и Советом по сотрудничеству стран Персидского залива заслуживают того, чтобы их рассматривали и использовали. Например, страны Персидского залива были среди наиболее активных партнеров в операциях под руководством НАТО (ОАЭ и Бахрейн в ИСАФ/МССБ; ОАЭ и Катар в операции «Юнифайд протектор»). Эти достижения свидетельствуют о том, что вопрос упирается не в политику НАТО в Персидском заливе в целом, а в СИС как средство ее реализации. Некоторые, посвященные в дела в Брюсселе, подчеркивают этот парадокс и утверждают, что этих успехов удалось бы добиться в любом случае.
Для того чтобы СИС была востребована и в будущем, мы должны более четко продумать ее методологию и первоочередность вопросов на повестке дня: она должна в большей мере отражать те аспекты безопасности, которые вызывают озабоченность у НАТО и партнеров по СИС.
Первый императив – расширить двусторонний характер СИС: многостороннее направление должно стать ее основным механизмом. Чтобы добиться этого, можно наладить стратегический диалог между партнерами по СИС, который будет проводиться два раза в год: один раз в Брюсселе и один раз в столице одной из стран Персидского залива. Помимо этого Саудовская Аравия и Оман смогут присутствовать в качестве специальных наблюдателей.
В диалог можно было бы включить политическое измерение, подключив к нему министров и начальников генеральных штабов. Но его эффективность будет зависеть от четко выверенного участия дипломатов, референтов и ученых с обеих сторон, которые будут обсуждать повестку дня СИС. Иными словами, этот стратегический диалог НАТО и стран Персидского залива должен быть не классическим, строго формальным и официальным собранием, а платформой для обмена свежими идеями и продвижения будущего сотрудничества.
Стратегический диалог НАТО и стран Персидского залива мог бы переориентировать партнерство на достижение долгосрочной цели и включить в себя обсуждение актуальных политических вопросов, таких как безопасность на море, укрепление потенциала и противодействие вакууму безопасности. Его также можно было бы использовать для обсуждения противостояния с Ираном.
Иранский вопрос не должен рассматриваться вскользь. К восприятию иранской угрозы в регионе Персидского залива надо подходить осторожно. И НАТО могла бы сыграть здесь ключевую роль в предотвращении непроизвольной эскалации. В конечном итоге НАТО и странам Совета по сотрудничеству необходимо будет изыскать более или менее формальные рамки для определенного диалога сдерживания с Ираном. К этому направлению стратегического диалога между НАТО и странами Персидского залива будет логично подключить партнеров НАТО, а также иранцев. Он не подразумевает обязательного участия высокопоставленных представителей государств и останется, скорее всего, на уровне неформальных переговоров.

ОАЭ уже обладают внушительным вооружением и военной техникой.
Фото любезно предоставлено «Локхид Мартин»
Хотя это и может показаться надуманным, но теоретически ничто не запрещает Ирану участвовать в дискуссиях СИС. Однако прежде необходимо будет разрешить ряд политических вопросов: характер ядерной программы Ирана, готовность государств-членов НАТО и стран-партнеров общаться с Ираном и совместимость подобной инициативы с существующим режимом санкций ООН, США и ЕС в отношении Тегерана. Но в долгосрочной перспективе подобного рода диалог мог бы стать рамками, которые позволят сторонам обсуждать вопросы военной организации государств, обмениваться мнениями о потенциальных очагах напряженности, разрабатывать «предохранительные механизмы» и в конечном итоге избежать просчетов.
В общем, в повестке дня стратегического диалога НАТО и стран Персидского залива может понадобиться учитывать предпочтения и склонности 28 государств НАТО и, в частности, тех, у кого уже есть особые отношения с Советом по сотрудничеству стран Персидского залива в целом и (или) с его отдельными странами. Но с учетом взаимозависимости заинтересованных сторон в упомянутых вопросах безопасности, а также нового упора, который Североатлантический союз делает на безопасности на основе сотрудничества, этот диалог не был бы лишним.
Итак, что делать?
Как свидетельствует опыт, обобщенный за восемь лет существования инициативы, вопрос не в предназначении самого партнерства, а в его методологии.
С этой точки зрения, речь идет о более масштабной задаче, которую предстоит решать НАТО. Поскольку организация столкнулась с внутренними трудностями в связи с финансовым кризисом, она пересматривает свое глобальное построение посредством концепции «умной обороны», которая направлена на получение большей рентабельности от сокращенных оборонных бюджетов за счет более тесного сотрудничества. Как указано выше, сотрудничество с партнерами по СИС во время операции «Юнифайд протектор» может быть наиболее ярким примером «умной обороны» на практике, которой мы можем добиться.
Вот почему реализация далеко идущего и в то же время реалистичного стратегического диалога со странами Персидского залива могла бы помочь Североатлантическому союзу по-новому взглянуть на свой подход к Ближнему Востоку.
Более века назад, когда над его лабораторией нависла угроза банкротства, физик лорд Резерфорд сказал своим коллегам: «Господа! Деньги кончились. Теперь надо думать». Государства трансатлантического союза столкнулись с аналогичными трудностями, и поэтому им действительно надо начать размышлять над «умными партнерскими отношениями».