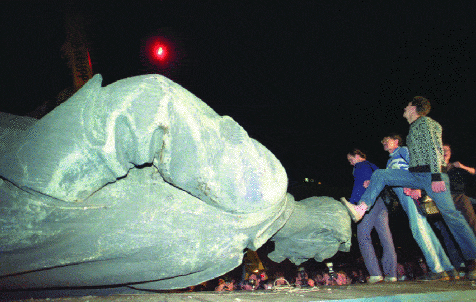России и НАТО пора перестать смотреть друг на друга через призму «холодной войны», утверждает Федор Лукьянов. Вызовы XXI века требуют от обеих сторон критически взглянуть на пережитки XX века.
Спустя 20 лет после окончания «холодной войны» НАТО и Россия все еще не в состоянии прийти к общему пониманию, которое позволило бы наметить очертания будущего стратегического сотрудничества.
Отсутствие данного понимания печально, поскольку стороны очень нуждаются друг в друге, даже если Москва и столицы стран НАТО еще не осознают этого до конца. Ведь перед Россией и Североатлантическим союзом, пусть и в силу противоположных причин, стоят одни и те же проблемы. Как Россия, так и НАТО, каждая по-своему, до сих пор неспособны отказаться от взглядов, унаследованных от прошлого.
Россия все еще оправляется от геополитического коллапса, последовавшего за распадом Советского Союза. Широкая общественность в России и большая часть политического класса страны инстинктивно ищут доказательство того, что в результате произошедшего в 1991 году развала Россия как важный актер не сошла с мировой сцены.
НАТО считается успешным соперником и символом стратегического поражения России
В данном контексте НАТО считается успешным соперником и символом стратегического поражения России, и на этом основано общее восприятие.
Разумеется, подобный подход – комплекс проигравшего с психологической точки зрения – вряд ли может способствовать конструктивному взаимодействию. Интеллектуальная слабость российской политической элиты, которая не может приспособиться к новой эпохе, лишь усугубляет общую неясность.
Тем не менее, процесс хоть и медленно, но идет: на фоне быстро меняющегося мирового пейзажа Россия постепенно преодолевает восприятие НАТО как основной угрозы своей безопасности. В настоящий момент общая направленность отношений с Североатлантическим союзом является отголоском прошлого. Пока еще неясно, когда этот отголосок исчезнет, однако он все больше и больше диссонирует с другими отзвуками в мире, особенно с теми, которые доносятся из Азии.
Проблемы НАТО – в противоположном подходе. По-моему, она до сих пор не может преодолеть эйфорию победителя и продолжает изображать себя самым успешным военным альянсом всех времен, что могло соответствовать действительности лет 15 назад, но вводит в заблуждение сегодня. Несмотря на накопленную мощь, НАТО плохо приспособлена, чтобы справиться с вызовами XXI века. Вместо того чтобы реально взглянуть на действительность, она пытается обойти ее с помощью политически корректной риторики и самовнушения.
До конца 2000-х годов крайне острая потребность в глубоких изменениях целей и задач НАТО удовлетворялась за счет расширения организации. Механическое растяжение достигло предела, но не смогло дать ответы на новые стратегические дилеммы.
И НАТО, и Россия выполнили (скорее, исчерпали) свои повестки дня эпохи окончания «холодной войны» и теперь должны определиться со своим новым самосознанием в XXI веке.
НАТО не стала «мировым жандармом», и единственной проблемой, которая осталась в первоначальной зоне ответственности НАТО – Европе, – является неурегулированность отношений с Москвой. Если заложить под них прочный фундамент, для чего обе стороны должны прежде всего отказаться от устаревшего восприятия друг друга, можно было бы определить новое предназначение для НАТО как региональной организации.
Подытоживая, можно сказать, что и НАТО, и Россия выполнили (скорее, исчерпали) свои повестки дня эпохи окончания «холодной войны» и должны теперь определиться со своим новым самосознанием в XXI веке. Настало время занять новое положение по отношению друг к другу.
Последние события скорее обескураживают. После полугодового обсуждения европейской противоракетной обороны, начавшегося на очень многообещающей встрече в верхах России и НАТО в ноябре прошлого года, официальные лица Североатлантического союза окончательно и недвусмысленно отвергли предложение России о сотрудничестве. Реакцию легко было предсказать: российские официальные лица выразили глубокое разочарование и предупредили об опасности новой гонки вооружений.
Прошли ли эти полгода переговоров впустую? Нет. Несомненно, стоило попытаться реализовать эту идею. Сам факт, что вопрос о сотрудничестве в такой деликатной сфере национальной безопасности был поднят в практическом ключе, свидетельствует о том, что стороны действительно отходят от логики «холодной войны».
«НАТО не может передавать на внешний подряд государствам, не являющимся членами организации, обязательства по коллективной обороне, которыми связаны члены организации».
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
Инерция и сила предубеждения очень велики с обеих сторон, но обсуждения оставили позади риторику веры и эмоций и вошли в сферу разума. Дискуссия выявила важные детали технической совместимости и политические варианты.
«НАТО не может передавать на внешний подряд государствам, не являющимся членами организации, обязательства по коллективной обороне, которыми связаны члены организации», – заявил Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. «Мы полагаем, что Россия также не готова поступиться своим суверенитетом». Это последнее высказывание особо примечательно. Многие эксперты отметили, что почти сенсационное предложение Президента Медведева о «территориальной противоракетной обороне» подразумевало возможность обсуждения доселе непреложного принципа стратегической самодостаточности России. Иными словами, президент выдвинул предложение, о котором не осмеливалась помышлять ни одна предыдущая кремлевская администрация, даже во времена романтического прозападного периода начала 90-х годов.
Очевидно, что ожидание быстрого и беспрепятственного успеха нереально. Громкая попытка Москвы разрешить вопрос, который касается фундаментальных аспектов безопасности, была, вероятно, обречена на провал. Для любого соглашения в этой области требуется очень высокий уровень взаимного доверия, а его нет в российско-американских отношениях, несмотря на некоторое улучшение, которого удалось добиться за последние два с половиной года. Теперь, когда мы понимаем, что прорыва не будет, следует сделать правильные выводы и свести к минимуму ущерб от нереализованных ожиданий. Первая попытка все же не напрасна.
Афганистан не может быть предметом долгосрочного взаимодействия между НАТО и Россией, поскольку у них разные цели.
Удивительным образом диалог по европейской противоракетной обороне развернул полемику вокруг гипотетического членства России в НАТО. В 2010 году строилось немало умозрительных заключений о том, должна ли Россия когда-нибудь присоединиться к Североатлантическому союзу. Выдающиеся аналитики и бывшие политики бросились высказывать на страницах западных изданий свое мнение о желательности и полезности членства России. Группа экспертов по стратегической концепции НАТО, которую возглавляла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, провела оживленную дискуссию по данному вопросу, хотя выводы «мудрецов» на данную тему не вошли в проект новой стратегии Североатлантического союза.
В России прозападные либералы из Института современного развития (ИНСОР) и даже высокопоставленные официальные лица обдумывают эту возможность. После встречи в верхах НАТО в Лиссабоне, где царил довольно дружественный настрой по отношению к России, два высокопоставленных российских чиновника признали возможность вступления России в НАТО в будущем. Речь идет о заместителе руководителя Администрации президента Владиславе Суркове и директоре Департамента внешнеполитического планирования МИД России Александре Крамаренко.
Обсуждение ни к чему не привело. Однако, быть может, впервые, стороны выдвинули конкретные аргументы. Они не сказали привычное: «Это невозможно, потому что этого не может быть никогда», а объяснили, почему это невозможно. То есть, дискуссия в конечном итоге пошла дальше риторики веры.
Тема противоракетной обороны неизбежно вновь возникнет в отношениях России и США, которые – естественно – формируют отношения между Россией и НАТО. До тех пор пока обе страны обладают ядерными арсеналами, превосходящими в несколько раз арсеналы остальных стран мира, понятие стратегической стабильности будет на повестке дня, каким бы устаревшим оно ни казалось. Но в том виде, в котором ПРО существует сегодня, она остается привязанной к более широкому евроатлантическому контексту. Иными словами, она не сбросила с себя мощную инерцию «холодной войны».
Это обсуждение может увидеть новый свет через пару лет, когда все участники поймут, что Европа не является больше стратегическим театром. С учетом того, как быстро Азия сменяет Европу, противоракетная оборона также будет все больше и больше ассоциироваться с этим регионом. Это означает, что диалог между Россией и США также претерпит изменение, поскольку роли, которые Москва и Вашингтон играют в Азии, совершенно отличаются от их ролей в Европе.
В XXI веке военно-политические альянсы будут опираться на иной основополагающий принцип, нежели в XX веке, когда альянсы основывались на общей идеологии или на одних и тех же ценностях. В предстоящие десятилетия, альянсы, вероятно, будут создаваться для достижения конкретных целей. Как сказал однажды Дональд Рамсфельд, «не задача ставится в зависимости от коалиции, а коалиция формируется в зависимости от задачи». Эта фраза оказалась более долговечной, чем его политическая карьера.
К тому же, даже если предположить, что членство России в НАТО реалистично, это никак не поможет в решении реальных проблем безопасности XXI века. Ими нужно заниматься в новом формате, в идеале – в трехстороннем формате с участием России, Китая и США. Хотя у этих трех держав разные интересы и подходы, они обладают стратегическим весом, необходимым для решения проблем в Центральной Евразии, на Дальнем Востоке России и в тихоокеанском регионе.
Европейские союзники США вряд ли будут вовлечены в данный процесс, пока они не выпутаются из афганской трясины. Причины этого подробно изложил министр обороны США Роберт Гейтс, выступая перед уходом в отставку в июне сего года в Брюсселе. В частности, он подчеркнул перенапряжение ВС и низкие оборонные расходы.
Афганистан не может быть предметом долгосрочного взаимодействия между НАТО и Россией, поскольку у них разные цели: Североатлантический союз подыскивает подходящий способ уйти оттуда, тогда как Россия ищет пути для решения долгосрочных проблем в этом регионе.
Но в настоящий момент их интересы совпадают, и в предстоящие годы появятся хорошие возможности для того, чтобы совместно справиться с переходным периодом. Это повысит взаимное доверие и уровень оперативной совместимости, необходимый для последующего сотрудничества. Но до этого НАТО и Россия должны сначала приспособиться к преодолению новых вызовов.