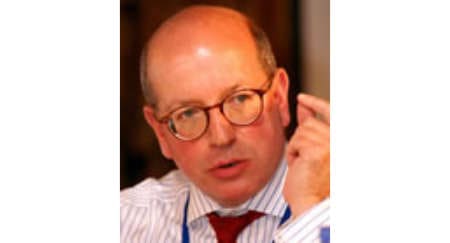Сотрудник Чэтем-хауса Джеймс Шерр отстаивает свое мнение о том, что различное понимание отношений России и НАТО каждой из сторон постоянно приводит к нежелательным результатам. И, как считает автор, эта тема будет присутствовать до тех пор, пока стороны не примут точку зрения каждой из них на понятие безопасности.
В течение последних нескольких лет многие справедливо спрашивали, может ли партнерство России и НАТО стать наконец содержательным термином. Пауза в процессе расширения Североатлантического союза, возобновление деятельности Совета Россия–НАТО, «перезагрузка» отношений США и России, новые соглашения СНВ и активизация сотрудничества в Афганистане придали этим надеждам реальную форму.
Но не секрет, что в отношениях между НАТО и Россией чего-то не хватает. Для Брюсселя недостающим звеном является доверие, а для Москвы – равенство.
Есть большие различия в восприятии, и они должны отрезвить возлагающих надежды. Несмотря на улучшения отношений, НАТО и Россия по-прежнему придерживаются противоположных взглядов на то, что сохраняет европейскую безопасность и что грозит ей. На эти отношения также наложила свой отпечаток разная традиция безопасности. Пока такое положение дел сохраняется, России будет сложно доверять НАТО, а страны НАТО будут с большим сомнением относиться к идее предоставления России такого равенства, к которому она стремится. При подобных обстоятельствах продуктивные отношения и сотрудничество возможны, а гармония – нет.
Для России равенство означает совместное управление
По существу НАТО никогда не подвергала сомнению равенство России. Россия – приоритетный партнер НАТО. Никто из членов организации не стремится уменьшить ее автономность или ограничить ее прерогативы. Основополагающий акт Россия–НАТО исключает «любое право на вето в отношении действий другой стороны» и любое ограничение «прав НАТО или России на независимое принятие решений и действия».
Однако для России равенство означает совместное управление. По мнению председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Константина Косачева, это означает «полноправное принятие в евроатлантический клуб и реальное влияние на процесс принятия решений». По мнению руководства страны, Россия уполномочена на подобное равенство в силу своего вклада в окончание «холодной войны», роспуска Организации Варшавского договора и своей стратегической значимости.
В то же время, как говорил Президент Путин, Россия «заслужила право на своекорыстность». Она имеет право на то, чтобы быть равной, но одновременно и отличной, на то, чтобы, согласно мнению министра иностранных дел Лаврова, оставаться самостоятельным «центром ценностей». По мнению Москвы, НАТО способствует новому разделению Европы тем, что игнорирует эти требования, о чем свидетельствует приближение «военной инфраструктуры» к границам России, и не желает отказаться от возможности дальнейшего расширения.
Внутри Североатлантического союза многие смотрят на Россию аналогичным образом. Подписав Будапештскую декларацию ОБСЕ в 1994 году и Основополагающий акт в 1997 году, Россия закрепила свое «уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, а также их неотъемлемое право выбирать средства для обеспечения собственной безопасности». Она также отказалась от «сфер влияния».
Однако российская дипломатия делает упор на несколько иных аспектах: «безопасность неделима» (Парижская хартия 1990 года), государства не должны «преследовать интересы безопасности за счет других» (Будапештская декларация 1994 года). Исходя из этих принципов, Президент Медведев настаивает на том, что система европейской безопасности не должна привести к созданию «зон с различными уровнями безопасности», в связи с чем напрашивается вопрос: имеют ли государства право вступать в «зоны» или покидать их.
Проект европейского договора о безопасности, представленный Россией в 2009 году, ограничивает обязательства вопросами «жесткой безопасности» (hard security) и игнорирует политические и экономические угрозы, и тем самым ставит Россию отдельно не только от НАТО, но и ОБСЕ, поскольку «процесс Корфу» делает упор на «всех аспектах безопасности».
Если судить по высказываниям в многосторонних и двусторонних форматах, позицию России далеко не так трудно уловить. Начиная с первого политического документа 1992 года о так называемом «ближнем зарубежье» и заканчивая упоминанием Президентом Медведевым в 2009 году «особой сферы влияния», Россия дала понять, что она обладает правом на ограничение суверенитета своих соседей. В августе 2009 года в своем призыве к Президенту Украины Ющенко Медведев упрекнул его в пренебрежении «основными принципами сотрудничества» и тем самым в подрыве «общей истории, культуры и религии» двух стран, основ «тесного экономического сотрудничества», а также в «упорном следовании курсом на членство в НАТО». За три месяца до этого премьер-министр Путин охарактеризовал попытки отделить Украину (Малороссию) от России как «преступление».
Те, для кого переговоры с Россией являются привычным делом, понимают, что это отчасти демонстративные позиции, и здесь есть определенная доля правды. Но российские политические курсы – это не гамбиты. Они выражают интересы государства, причем с заметной последовательностью.
В этой связи целесообразно сделать пять выводов.
Во-первых, мы не должны предполагать, что недавние улучшения в отношениях примирят Россию с местом НАТО в мире. В новейшей Военной доктрине России НАТО стоит первой в списке «военных опасностей», с которыми сталкивается российская сторона. Стратегическая противоракетная оборона также причислена ею к «военной опасности». Доктрина была опубликована в феврале 2010-го, через полтора года после того, как процесс расширения вошел в стадию неопределенности. Эта доктрина совершенно не сочетается со Стратегической концепцией НАТО, которая провозгласила, что «безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана».
Во многих областях Россия – неизбежный партнер. Но она и впредь будет сложным партнером
Во-вторых, мы не должны считать, что будет прирост сотрудничеств, то есть что одно соглашение будет вести к другим. Новый договор СНВ не способствовал прогрессу в переговорах по противоракетной обороне и, по крайней мере, до сих пор призыв Сената США к переговорам по субстратегическому оружию решительно отвергался. Вместе с тем мы не должны считать, что Россия будет продолжать сотрудничать с НАТО ради самого сотрудничества. С точки зрения Москвы, переговоры и совместные усилия – это не занятия групповой терапией, а средства для продвижения национальных интересов. Сотрудничество в некоторых областях в Афганистане (например, снабжение и транзит) не исключает противоречащих друг другу подходов в других областях (например, права на базирование и региональная безопасность).
В-третьих, мы не должны предполагать, что потребность в «модернизации» и иностранных инвестициях смягчит отношение России к НАТО. Есть ощутимая связь между ограничениями на ресурсы, неспособностью администрации и проблемой дефицита в обычных вооруженных силах России. Но неудачи в военной реформе, осуществляемой министром обороны Сердюковым, лишь усугубили враждебность в отношении противоракетной обороны НАТО и сопротивление дальнейшему сокращению ядерного оружия.

Противоракетная оборона: означает ли это больший объем сотрудничества или больше причин для разногласий?
В-четвертых, мы не должны умалять влияние ценностей и традиций друг друга. Три поколения западных демократий мыслят категориями выработки консенсуса, коллективного принятия решений и руководствуются «обычаями сотрудничества», призванными сочетать национальные интересы с взаимными интересами. Сегодня НАТО и ЕС привержены системе безопасности, сложившейся по окончании «холодной войны», отличительными чертами которой являются не линии на картах, а свобода государств выбирать своих партнеров и модель развития. Государства также считают, что в ряде случаев надо защищать всеобщие ценности за пределами своих границ. Россия не придерживается этой традиции. Это нарочито современное государство без примеси постмодерна. Оно без зазрения совести трактует безопасность исключительно в плане геополитики, не оправдывается, отстаивая сферы влияния, непреклонно верит в суверенитет и не скрывает своего недоверия к «западному мессианизму».
В-пятых, если пойти дальше, мы должны быть готовы согласиться с тем, что отдельные политические курсы, которыми мы дорожим больше всего, противоречат российскому пониманию права и предоставления права. Поддержка «свободы выбора» соседей России может быть выгодна для Европы, но она противоречит российским интересам, какими они видятся России сегодня. Для военных кругов, в которых безопасность приравнена к господству в «пространстве», присутствие сил НАТО «вблизи границ России» представляет «военную опасность», независимо от нашего намерения.
Это не значит, что из-за этих выводов отношения с Россией должны утратить свою первоочередность для НАТО. Напротив, данные выводы должны укрепить решительный настрой Североатлантического союза на углубление сотрудничества в тех областях, где есть общность интересов, и ограничить расхождения во мнениях вопросами, вызывающими настоящее разногласие.
Во многих областях Россия – неизбежный партнер. Но она и впредь будет сложным партнером.
Собственные национальные интересы России накладывают строгие ограничения на степень ее поддержки или сопротивления политике НАТО. С учетом этих ограничений мы можем добиться конечных, но важных результатов. Если же мы будем ожидать большего, мы обречены на разочарование.