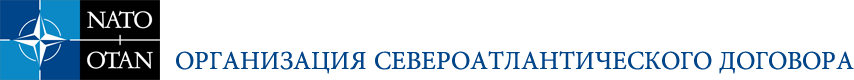Лекция 4 – Энергетическая безопасность: является ли это проблемой для рынков или для стратегического сообщества тоже?
Д-р Джейми Шеа, директор планирования политики в Личной канцелярии генерального секретаря
-- Дамы и господа! Спасибо, что снова пришли в Институт европейских исследований, где сегодня будет прочитана 4-ая из 6 лекций о новых вызовах безопасности. С нами снова Джейми Шей и сегодня он будет говорить об энергетической безопасности и об актуальности этой проблемы в ХХІ столетии. Джейми, вам слово.
-- Спасибо, Энтони. Обещаю, что до Рождества я тут больше не появлюсь. Так что вы, вполне заслужено, сможете отдохнуть – от меня так уж точно…
Как всегда, хочу поблагодарить Институт за возможность провести эту лекцию – 4-ую в данном цикле, как уже было сказано.
Сейчас, когда в Брюсселе похолодало и в прошлые выходные вы все, наверное, больше обычного пользовались центральным отопление и газом, тема сегодняшней лекции представляется очень уместной – энергетика и энергетическая безопасность.
На прошлой неделе в Копенгагене состоялась конференция, посвященная изменению климата, а на этой проходит саммит на эту же тему, и конечно, нас всех волнует вопрос: удастся ли достичь соглашения.
Понятно, что в ХХІ веке любое соглашение, касающееся изменения климата, будет действенным, только если в нем будут учтены вопросы эффективности энергопотребления, альтернативных источников энергии, сокращения использования ископаемых видов топлива и так далее.
Мы воспринимаем энергию как данность и не задумываемся об этом. Когда я был студентом, я одно время жил в коммунистической Польше. Тогда энергия была бесплатной, поэтому никто не удивлялся, что зайдешь, бывало, в какой-нибудь офис или в квартиру (даже летом) и чувствуешь, что натоплено градусов до 80 по Цельсию (по крайней мере, у меня было такое ощущение), хотя все окна раскрыты настежь…
Я думаю, многим из вас встречались люди, которые в 80-ых или 90-ых зарабатывали большие деньги, к примеру, на фондовой бирже, и вкладывали эти деньги в покупку мощных джипов, не думая о том, что такая машина сжигает литр топлива на каждые 5,1 километра. Когда нефть стоила дешевле минеральной воды Эвиан, никого это не волновало.
На протяжении довольно долгого периода моей жизни «большая нефть», бесспорно, доминировала в геополитике. Уже в 1982 гожу, когда журнал «Форбс» назвал самых богатых людей Америки, 15 из 30 из них были нефтяными баронами, в основном, из Техаса.
Еще в 82-м, до того как наступила эра Майкрософта и информационных технологий, нефть была основным фактором экономики Соединенных Штатов и главным способом личного обогащения.
Я хотел бы с самого начала подчеркнуть эту связь – между нефтью и геополитикой. А началось все в 1912 году, когда Уинстон Черчилль, в то время Первый лорд Адмиралтейства Великобритании, решил перевести королевский военно-морской флот с угля на нефть, так как считал, что в результате новые британские линкоры (класса «дредноут») станут быстрее немецких и американских кораблей, и Британия получит стратегическое преимущество.
Именно в то время Черчилль сказал известную фразу (запомните ее, мы еще вернемся к этому в конце лекции): «Безопасность и надежность поставок нефти определяется исключительно разнообразием источников снабжения».
И как только Британия перевела свой флот на нефть, поиск надежных и богатых источников снабжения нефтью в Персии, Ираке, на Ближнем Востоке и в других регионах стал одной из главных стратегических задач Британской империи. Во время Первой мировой, когда появились танки, самолеты, другая техника, многие армии перешли от использования конской силы к военным машинам. (Хотя большинство армий все-таки еще полагались на лошадей. Даже во время Второй мировой, когда немцы вторглись в Советский Союз в июне 41-го, лошадей у них было больше, чем танков). Но после перехода на технику зависимость от нефти и ее роль в военных победах стали постоянно возрастать.
После Второй мировой лорд Джордж Керзон, вице-король Индии, который впоследствии стал министром иностранных дел Британии, сказал, что к победе союзников вынесла нефтяная волна.
После Первой мировой войны Британию не могла не радовать возможность расширить свою империю до Ирака и Персии, которые тогда обладали самыми богатыми источниками нефти в мире, за исключением Соединенных Штатов, где первые месторождения были открыты в середине ХІХ столетия, в Техасе и Пенсильвании.
Во время Второй мировой борьба за источники снабжения нефтью имела особое значение. Одной из причин решения Гитлера идти на восток, на Кавказ, вместо того, чтобы нанести удар по Москве, было именно желание завладеть нефтяным богатством Советского Союза и подорвать позицию русских, лишив Сталина доступа к нефтяным запасам. Одним из обстоятельств, которые дали британцам возможность избежать столкновения с генералом Роммелем в Египте, было отсутствие у него достаточного количества горючего, чтобы двинуть немецкие танки на Египет. Именно это дало возможность генералу Монтгомери простор для маневра.
К тому же в конце Второй мировой боевая мощь авиации и флота Японии, так же как и немецкой армии с 44-го года и до конца войны, была подорвана именно нехваткой горючего. В 45-м немцы имели в своем распоряжении только 5% нефтяных запасов, которыми они владели в 41-м и 42-м годах!
У немцев было достаточно боевых самолетов, которые могли бы нанести значительный урон как британской, так и американской авиации, особенно после высадки в Нормандии, но они просто не могли поднять их в воздух. Вообще, на протяжении Второй мировой войны союзники постоянно стремились разбомбить нефтеперерабатывающие заводы немцев, даже на отдаленных территориях, например, в Румынии, возле месторождения Плоешти. (Кстати, союзникам так и не удалось вывести из строя тот завод, что и дало немцам возможность продолжать борьбу).
На тегеранской конференции 43-года, Сталин, произнося тост, сказал: «Эта война – война моторов и октанов; я пью за американскую автомобильную промышленность и за американскую нефтяную промышленность». Дело в том, что в 1944 году Соединенные Штаты производили 90% всего объема высокооктанового горючего, которое использовали все союзники. У нас тут, конечно, не урок истории, но не помешает вспомнить, что и после Второй мировой войны нефть часто играла роль важного фактора международной политики.
Можно сказать, что одной из самых главных встреч Второй мировой для президента Рузвельта была не Ялта или Тегеран, а для Гарри Трумена – даже не Потсдам; самое большое значение имела встреча Рузвельта с правителем Саудовской Аравии Абделем Азизом ибн Саудом на борту американского крейсера «Куинси» в Дарданеллах, в 45-м, сразу после Ялты. В результате этой встречи Америка и ее нефтяные компании впервые получили жизненно важный доступ к саудовским месторождениям.
Политические процессы на Ближнем Востоке – например, государственный переворот против премьер-министра Ирана Моссадыка в 1953-м году или Суэцкий кризис – агрессивное выступление против Абдель Насера в 1956-м – во многом определялись соображениями о том, кто будет контролировать обеспечение Запада стабильными поставками дешевой нефти. А после войны Судного Дня между Израилем и Египтом в 1973 году арабские страны ввели нефтяное эмбарго против многих стран Запада; в результате цена на нефть выросла вчетверо. Это было на раннем этапе существования картеля ОПЕК – организации стран-экспортеров нефти. В результате этих событий экономическое процветание Запада было на несколько лет приостановлено.
Вспомним войны в Персидском заливе в более поздний период – в Ираке в 1991-м и в 2003-м. И хотя нефть не была, я подчеркиваю – НЕ БЫЛА, главной причиной международного вмешательства в обоих случаях, но независимо от того, что вы думаете о реальных мотивах (связанных с оружием массового уничтожения, например), многие эксперты, как в арабских странах, так и в западном мире считают, что положительным «побочным эффектом» -- не главной причиной, а побочным эффектом этих кампаний было дальнейшее освобождение процесса нефтяных поставок от политических манипуляций.
Итак, дамы и господа, первый вопрос на сегодня: если большая нефть, King Oil – то есть Король Нефть, как говорят в Техасе, играла такую большую роль в ХХ столетии, будет ли ее роль такой же важной в геополитике ХХІ столетия?
И тут, прежде всего, нужно сказать, что ископаемые виды топлива будут использоваться еще довольно долго. Это важно подчеркнуть. Мы уже говорили об изменении климата и о встрече в Копенгагене; нас всех интересуют альтернативные источники – атомная энергия, этанол, биотопливо, энергия ветра, солнечная энергия…
Сегодня по радио я даже слышал, что на Оркнейских островах британцы экспериментируют с морскими турбинами, поскольку скорость морского течения приблизительно 16 км в час и этого достаточно, чтобы добывать энергию из морских глубин. И действительно, дамы и господа, у нас есть все основания работать над созданием альтернативных видов топлива, не только для защиты климата, но и по геополитическим соображениям.
Но сегодня нефть составляет 40% совокупного энергопотребления, уголь – 26%, а газ – 24%. То есть ископаемые виды топлива составляют значительную часть общего энергетического баланса. По наиболее оптимистическим оценкам специалистов, даже через 20 лет в общей структуре энергопотребления три четверти будут составлять именно ископаемые виды топлива. Возможно, когда-нибудь в будущем мы и сможем преодолеть эту «наркотическую зависимость от нефти», как сказал Джордж Буш младший, но сделать это будет нелегко и случится это нескоро, особенно если учесть статистические данные, недавно предоставленные Международным энергетическим агентством. Из них следует, что до 2030 года использование энергии в мире, даже с учетом глобального финансового кризиса, возрастет на 50%, а доля нефти в этом увеличении составит как минимум 30%.
Что же из этого следует? Первый стратегический вывод состоит в том, что промышленные страны – страны Запада или развитые страны, называйте, как хотите, становятся все более зависимыми от импорта энергоресурсов. В прошлом США добывали 70% своей нефти на собственной территории – на Аляске, в Калифорнии, в Техасе, в Пенсильвании. Сегодня этот показатель снизился до 15%. В начале 70-х США импортировали только треть своей нефти. Сегодня это уже 60%, а завтра – точнее, к 2025 году – будет 65%.
Население США составляет 4% населения планеты, но на него приходится 250 из 520 миллионов автомобилей, существующих сегодня в мире. И хотя американцы жалуются, что сейчас бензин значительно подорожал, гражданин США платит только 18% налога на стоимость бензина по сравнению с 70% в моей стране, так что в Америке он все равно дешевый.
В Великобритании такая же ситуация с энергоресурсами. Просто приведу пример. Несколько лет назад, рассчитывая на месторождения нефти и газа в Северном море, Великобритания была уверена, что сможет обеспечить свои потребности. Но сейчас эти ресурсы быстро сокращаются и Великобритания, впервые за много лет, стала импортировать нефть и газ. Сегодня страна импортирует 80% потребляемого газа. Даже 70% нашего угля ввозится из-за рубежа, хотя у нас богатейшие залежи собственного угля – просто купить его в другом месте получается дешевле. К тому же, поскольку мы привыкли получать энергоресурсы из Северного моря, мы не делали достаточных инвестиций в хранилища и теперь Британия, как это ни парадоксально, весьма чувствительна к перебоям в энергоснабжении, поскольку нам не хватает мощностей для хранения энергоресурсов.
Итак, мы можем сделать первый вывод: большие страны зависят от импорта, а круг поставщиков продолжает сужаться. Следующий вывод: производство энергоресурсов главным образом возвращается к картелю ОПЕК, как это было в 70-х.
Благодаря месторождениям Северного моря, Норвегии и прочим источникам, на какое-то время позиция ОПЕК несколько ослабела, поскольку среди поставщиков появились страны, не являющиеся членами ОПЕК, но тенденции последних 20 лет указывают на то, что Ближний Восток восстановит свой статус важнейшего источника нефти и газа.
На Ближнем Востоке находятся 50% разведанных мировых запасов нефти и газа. Саудовская Аравия и в дальнейшем будет играть решающую роль, поскольку только эта страна имеет потенциал так называемого «компенсирующего производства»: она производит от 2 до 4,5 миллионов баррелей нефти в день, и этого достаточно для удовлетворения потребностей рынка. Если, допустим, в Венесуэле будет забастовка, как в 2003 году, или террористы взорвут трубопровод компании «Шелл» в дельте Нигера, или будет введено эмбарго против Ирана, то только Саудовская Аравия сможет это компенсировать.
За несколько последних лет они инвестировали 100 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность увеличивать объемы производства нефти от 10 миллионов баррелей, которые производятся сейчас, до 12,5 миллионов баррелей в день, если возникнет необходимость.
Проблема Ближнего Востока в том, что его население увеличивается быстрее, чем в любом другом регионе мира. Сейчас около 70% населения Ближнего Востока составляют люди в возрасте до 30 лет. Так что к тому времени, когда нам, возможно, придется все больше полагаться на импорт энергоносителей из этого региона, Ближнему Востоку понадобится значительно большая часть запасов нефти и газа для удовлетворения собственного рынка.
По данным Международного энергетического агентства, в течение нескольких последующих лет Саудовская Аравия будет потреблять на 50% больше энергии, чем Индия, хотя население Ближнего Востока равняется только одной пятой населения Индии. Итак, первое – Ближний Восток.
Следующий фактор – государственный контроль. В то время, когда резко возросло влияние ОПЕК – это был 73-й год – почти все нефтяные и газовые компании находились в частном секторе. Сегодня же 15 из 20 самых больших энергетических компаний мира являются государственными. «Семеро сестер», как мы их называем – частные нефтяные компании, среди которых известные вам Шелл, БиПи, Тексако и другие – сегодня производят только 10% мировых объемов нефти и газа и контролируют менее 3% мировых запасов. Более 80% находятся в государственной собственности. Безусловно, это влияет на общую ситуацию.
В связи с этим возникает вопрос: заинтересованы ли государства в продаже нефти и газа так же, как и частные компании? Готовы ли они инвестировать свои прибыли в разведку и разработку новых месторождений? (Я имею в виду такие компании, как российский Газпром или Пемекс в Мексике, или государственная нефтегазовая компания Венесуэлы). Ответ – нет!
Взять хотя бы Венесуэлу. Около двух третей ее прибыли от нефти и газа не реинвестируются в отрасль, а идут на финансирование социальных программ Чавеза, чтобы удовлетворить его избирателей. Я не говорю, что это плохо, но это означает, что этим странам будет не хватать инвестиций, а это, в свою очередь, приведет к сокращению производства и отрицательно скажется на их возможности выполнять договорные обязательства по поставкам нефти и газа.
Именно поэтому некоторые известные эксперты, такие как Мартин Вульф, главный экономист газеты Financial Times; бывший заместитель директора Мирового банка Джо Стиглиц или известный экономист Колумбийского университета, специалист по вопросам развития Джеффри Сакс, говорят о так называемом «нефтяном проклятии». Любопытно, что с 60-х годов, когда нефть перешла в государственную собственность, доход на душу населения в этих странах фактически уменьшился, а не возрос.
Значительная часть поступлений в бюджет используется для финансирования социальных программ рынка труда, немало тратится на вооружение. В перерасчете на душу населения, государства, производящие нефть, тратят на оружие от 2 до 10 раз больше, чем развивающиеся страны.
В 60-ых годах министр по вопросам развития Венесуэлы Хуан Пабло Перес Альфонсо даже назвал нефть не «черным золотом», а «экскрементами дьявола», сетуя на то, что для развивающейся страны нефть может обернуться не манной небесной, а настоящим проклятием. Она подкармливает коррупцию, используется для чрезмерной милитаризации, к тому же солидная часть прибыли от нефти оседает за границей, а не инвестируется в развитие.
Возьмем Саудовскую Аравию. Там возникла колоссальная проблема: страна не может обеспечить создание рабочих мест для молодого населения, количество которого стремительно растет. Нефтяная промышленность дает 95% национального дохода, но обеспечивает занятость только 10% населения страны. К тому же цены на нефть очень нестабильны. Несколько лет назад баррель стоил почти 150 долларов, помните? В начале этого года цена упала до 32 долларов за баррель, потом подскочила до 80, сейчас снова около 65 (на роттердамском спотовом рынке)…
Если цены на нефть падают, прекращаются социальные выплаты, а население страны в значительной мере зависит от субсидий. Именно поэтому многие аналитики связывают радикализацию населения с проблемой безработицы на Ближнем Востоке. На прошлой неделе мы вспоминали об этом на лекции о терроризме.
Следующим важным фактором является то, что энергопотребление в развивающихся странах продолжает возрастать. Еще в недавнем прошлом – во время войны 91-го года в Персидском заливе – Китай, представьте себе, был экспортером нефти. У него была лишняя нефть, и он продавал ее другим странам. А теперь Индия выпускает автомобиль Тата по цене меньше 1000 долларов, Китай – Черри по почти такой же цене, и сегодня Китай уже активно импортирует нефть. За период от 2000-го до 2007-го года 85% прироста энергорынков произошло именно за счет развивающихся стран, а учитывая, что Индия и Китай не очень пострадали от финансового кризиса, тенденция здорового роста, которая сейчас наблюдается в их экономике, будет сохраняться.
Обратимся к статистике: если мы хотим поддерживать стабильную ситуацию на планете, то есть на уровне 2 градусов повышения глобальной температуры (это, конечно, не стабильность, но, по крайней мере, при таких условиях ситуация будет управляемой), то, учитывая, что в следующее десятилетие Китай постепенно увеличит свое потребление нефти на 20%, обеспечить эту управляемость можно будет лишь при условии, что развитые страны сократят свое потребление нефти на те же 20%.
Но, что касается объемов потребления нефти, тут наблюдается огромное неравенство. Гражданин ЕС потребляет столько же нефти, сколько потребляет семеро алжирцев. (Правда, за последующие 15 лет Алжир удвоит потребление энергии). Гражданин развивающейся страны в среднем потребляет в 8,2 раза больше энергии, чем гражданин страны «третьего мира», как это раньше называлось.
По мере того как развивающиеся страны наращивают свою экономику, разрыв между ними и развитыми странами, конечно же, сокращается, и будет сокращаться и в дальнейшем. Недавно я прочитал книгу, которая называется «Мир двух миллиардов автомобилей» -- вы можете себе представить, как возрастет потребление энергоресурсов, если в мире действительно будет столько автомобилей!
Ископаемые виды топлива, как известно, не возобновляются, они не пригодны для повторного использования. Поэтому, если мы хотим удовлетворять растущие потребности мира в энергоресурсах, нужно или потреблять меньше, или открывать новые месторождения. Единственное, что можно сказать с уверенностью, это то, что рано или поздно они закончатся. Вы, очевидно, слыхали о дебатах по поводу так называемого «нефтяного пика». Эксперты серьезно расходятся в оценках периода, когда мир достигнет этого пика. «Пиком нефти» называют такую точку во времени, после которой открывать новые месторождения станет все труднее, а эксплуатировать их – все дороже. Тем временем потребление растет, поэтому спрос неизбежно превысит предложение, после чего наши возможности удовлетворять этот спрос начнут резко сокращаться. К тому же не стоит забывать, что, несмотря на активные разговоры о солнечных батареях, энергии ветра и так далее, энергообеспечение транспорта все еще на 90% зависит от нефти.
Даже США используют 70% своей нефти для транспорта, а если говорить о розничной торговле – магазинах, супермаркетах – то 95% всех товаров попадают туда благодаря транспортным средствам, работающим на нефтепродуктах.
Сложилась ситуация, когда необходимо тщательно проанализировать наши возможности обнаружения новых месторождений нефти. И тут я должен сказать, что статистика по этому вопросу неутешительная. С тех пор как, около 100 лет назад, началась нефтяная эпоха, мы использовали 875 миллиардов баррелей нефти. По оценкам Геологической службы США, из разведанных запасов мы можем рассчитывать еще на 1,7 триллиона баррелей. Это еще не значит, что они легко доступны: речь идет и о морских месторождениях на большой глубине или, к примеру, о залежах под паковым льдом в Арктике, или в труднодоступных местах на территории Канады. Но, по крайней мере, эти месторождения нам известны.
По оценкам Геологической службы США, в недрах может оставаться еще около 900 миллиардов баррелей. То есть, вместе с известными запасами – это 2,6 триллиона. Вы можете сказать: не так уж и плохо! Мы использовали 875 миллиардов, а 2,6 триллиона еще осталось. Но тут есть одно неприятное обстоятельство: если современные тенденции потребления сохранятся, этого хватит только до 2030-40 года. Иными словами, в течение следующих 20 лет мы используем вдвое больше нефти, чем за последнее столетие.
Статистика подтверждает это: с 1960 по 1989 год в мире в среднем было открыто вдвое больше запасов, чем мы потребили. А с 1989 года обнаруженные новые месторождения составляли только половину увеличения объема потребления. Новые месторождения, которые мы находим, все меньше по объему запасов. Когда-то легко было обнаружить месторождение с запасами стоимостью около 15-ти миллиардов долларов и разрабатывать его, но те времена уже прошли.
Мне бы не хотелось рисовать беспросветно мрачную картину, в конце концов, приближается Рождество – праздник оптимизма и хорошего настроения, к тому же, в нынешней ситуации есть ведь и позитивные моменты. Одним из них, как ни парадоксально, является финансовый кризис. Кое-кто из вас, вероятно, подумал: что за чепуха?! Что позитивного может принести финансовый кризис? Но мы ведь знаем, что в прошлом году была достаточно мягкая зима и довольно холодное лето. Этим летом я был в Америке. Погода была настолько прохладная, что американцы не включали кондиционеры.
Все это привело к значительному сокращению спроса на энергоресурсы. Цена газа, например, снизилась на 80%, в результате чего Газпром, который был когда-то самой мощной компанией в мире, оказался в серьезных долгах. Из-за сокращения продаж за последние 2 года компания утратила 85% прибыли и две трети своей рыночной стоимости.
Так что влияние кризиса на цены энергоресурсов было для нас положительным. Но ведь как только экономика восстановится, цена на нефть может опять подскочить до 150 или даже до 200 долларов за баррель…
Капитализм определенным образом обеспечивает цикличность: после падения наступает стадия подъема, но, к сожалению, после подъема опять наступает период падения.
Вторая хорошая новость состоит в том, что при современных технологиях из существующих месторождений можно добыть больше и эксплуатировать их дольше, потому что стало возможным бурить более глубокие скважины, современные геологические исследования более результативны, теперь мы можем находить нефть в твердых породах и так далее…
Это все равно как пить сок через соломинку: если водить соломинкой по самому дну бутылки, то можно высосать остатки сока, которые обычно остаются недопитыми. Например, сейчас технология позволяет осуществлять глубоководное бурение, которое раньше было невозможным. Новые технологии сделали возможной и добычу сланцевого газа, например, в Луизиане, что дает США возможность достичь, лет через 20, самодостаточности в обеспечении газом. Так что всегда стоит учитывать то, что технология может открыть перед нами новые возможности.
Возможно, вы читали в газетах, что на прошлой неделе Ирак провел аукцион на эксплуатацию 12 новых месторождений. Сегодня Ирак, можно назвать самым неосвоенным источником нефти. Например, его самое крупное месторождение, которое по оценкам компании Royal Dutch Shell, могло бы давать 1,8 миллионов баррелей в день, сейчас дает только 46 000 баррелей. Так что, учитывая потенциальные возможности, Ирак легко может обогнать Иран и стать второй страной мира по объему запасов нефти.
Интересно, что на аукционе возникла одна проблема: два месторождения не выставлялись на торги, поскольку они находятся в политически нестабильных районах или потому, что правовые соглашения, например, между курдами и суннитами или между курдской автономией и правительством Ирака, недостаточно проработаны. Есть и другие месторождения. Есть Ямал в Арктике – самое большое российское месторождение природного газа, в России есть и Штокмановское подводное месторождение природного газа. Есть газовое месторождение Барзан в Катаре; так что запасы есть, но, как я уже говорил, спрос будет расти и по оценкам Международного энергетического агентства, чтобы удовлетворить растущие потребности, к 2030 году необходимо найти дополнительные возможности производства 45 миллионов баррелей нефти в день.
Это вчетверо больше, чем сейчас ежедневно производит Саудовская Аравия и, как я уже говорил, современные тенденции свидетельствуют о том, что новые месторождения меньше по объему, а стоимость их эксплуатации продолжает возрастать. Проблема в том, что из-за нынешнего финансового кризиса и низких цен на нефть и газ никто не спешит вкладывать средства в разработку новых месторождений. А поскольку во время кризиса новые месторождения не открывали, то когда спрос, в конце концов, возрастет, предложение будет стабильным или сократится, после чего наступит переломный момент в ценообразовании. И тогда 200 долларов за баррель станут реальностью.
Какое же значение все это имеет для НАТО, европейской безопасности и общей энергетической безопасности? Очевидно, что для европейцев главную роль в этом процессе играет Россия. Ей принадлежит 25% мировых запасов газа и около 10% мировых запасов нефти. Именно из России Европа импортирует 40% своего газа, а так как через 20 лет европейское потребление газа возрастет на 40%, то очевидно, что этот газ будет поступать главным образом из России.
Особенность обеспечения газом состоит в том, что сменить поставщика очень непросто. Нефть транспортируют танкерами. Так что можно обратиться к Венесуэле или Нигерии, или к другой стране, а газ идет по трубопроводу. Трубопровод не перенесешь. Во всяком случае, это очень сложно сделать. Поэтому он как бы привязывает потребителя к конкретному поставщику. И вырваться из этой зависимости невозможно, разве что при помощи мощных инвестиций в создание альтернативных трубопроводов и при наличии стабильного альтернативного источника поставок.
Безусловно, Россия тоже заинтересована в том, чтобы продавать нам газ. Экспорт газа имеет немалое значение для России. 80% государственных поступлений России дают сырьевые ресурсы, поэтому страна заинтересована в стабильных отношениях. Однако сейчас на горизонте стали появляться тревожные признаки. Прежде всего, в ходе экономического развития России быстро растет и внутреннее потребление газа – в следующие 20 лет оно вырастет на две трети. Если россияне не смогут увеличить производство газа, им придется делать непростой выбор: кому продавать газ – своему населению, Китаю или Европе? На всех может не хватить.
Россия тоже недостаточно инвестирует в разработку новых месторождений. Она даже покупает газ в Центральной Азии по цене вчетверо выше, чем 5 лет назад. И покупает, главным образом, у Туркменистана, в основном для того, чтобы закачать в трубопроводы и выполнить свои договорные обязательства как поставщик. Находиться в таком положении очень непросто. Я уже говорил о новых месторождениях – Ямальском и Штокмановском. Но принятие решения по их разработке отложено, поскольку в прошлом году Газпром инвестировал на 17% меньше, чем в предыдущем: в компании кризис наличных средств.
Еще одно обстоятельство: Россия не привлекла значительных западных инвестиций или технологий, главным образом из-за политики государственной собственности. Вы, вероятно, знаете о проблемах компании BP-TNK, которая была вынуждена продать Газпрому 60% своих акций в компании «Russia petroleum» из-за чрезмерных счетов по оплате налогов, которые появились неожиданно, точно с неба свалились. Компания Shell тоже была вынуждена продать свои акции в процессе реализации двух проектов на Дальнем Востоке, а это означает, что России, вероятно, будет не хватать западных инвестиций и технологий для разработки новых месторождений.
По данным Шведского агентства оборонных исследований, с 1991 года в российских поставках в Европу было 55 перебоев и только 10 из них не были связаны с политическими мотивами. Это вызывает серьезное беспокойство, поскольку монополия может использоваться как способ политического давления.
В результате сложилась ситуация, когда европейцы, особенно ЕС, должны разработать общую энергетическую политику диверсификации источников снабжения. Необходимо избежать ситуации, при которой одна компания, как Газпром, имеет монополию не только на поставку, а и на распределительные сети. Представьте, что у вас есть автомобиль, который, так сказать, прикреплен к автозаправке Тексако и вы можете заправлять его только там. Вы не можете это сделать на заправке Шелл или Лукойл или Тотал, только на Тексако! Конечно, это связывает вас по рукам и ногам. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить такие условия, при которых производители не могли бы владеть еще и распределительной сетью и не были бы монополистами.
Следующий вопрос – это так называемая «трубопроводная дипломатия». Я уверен, что вы все знакомы с этой темой, поскольку она широко обсуждается. Кому должен принадлежать трубопровод, по чьей территории он проходит и так далее…
И тут, очевидно, есть два аспекта. Первый – это то, что 80% российского газа идет в Европу через территорию Украины. Две предыдущие зимы мы были свидетелями споров между Россией и Украиной; особенно бурно обсуждались расчеты и оплата транзита Россией, и в обоих случаях дело кончалось тем, что Россия перекрывала кран и половина Европы, по крайней мере, ее восточная часть, просто замерзала, поскольку она на 100% зависит от российского газа.
Итак, первая задача для России – построить трубопроводы, идущие в Европу, в обход Украины. Например, Северный поток – под Балтийским морем до Германии, или другой, Южный поток – через Турцию и Черное море до Вены. Но это, конечно, только усилит роль России в обеспечении Европы газом. Есть альтернативный проект Набукко, названный так по одноименной опере Верди, так как разработчики идеи проекта впервые обсудили ее, когда слушали эту оперу. (Это если кого-то интересует, откуда взялось такое экзотическое название). Трубопровод должен пройти от Грузии, через Азербайджан и Турцию, опять-таки до Вены. Преимущество этого проекта в том, что он предусматривает маршрут в обход России, что даст Европе амортизационный резерв в 10% и обеспечит диверсификацию поставок.
Строительство именно этого трубопровода имеет для европейцев особое значение, но, дамы и господа, кому нужен автомобиль без водителя, согласитесь? Никому не нужен и трубопровод, если его нечем наполнить. Так что успех проекта Набукко напрямую зависит от способности ЕС провести переговоры с Азербайджаном и в итоге подписать контракт, который на начальном этапе позволил бы получить хотя бы 25% необходимого объема газа. Позднее, возможно, необходимые поставки сможет обеспечить Ирак. Есть также мнение, что в отдаленной перспективе газ для этого трубопровода сможет поставлять даже Иран. В любом случае важно не только построить трубопровод, но и получить конкретный источник газоснабжения.
Чем же тут могут помочь страны НАТО? Что мы, как сообщество, можем сделать, чтобы гарантировать энергобезопасность?
Несомненно, Черчилль был прав: диверсификация крайне необходима – нельзя складывать все яйца в одну корзину. Набукко нужно строить, это бесспорно. Но мы должны также проанализировать возможности получать больше газа от алжирской компании Сонотрак или от Нигерии, через Транссахарский трубопровод, если это будет возможно. А сейчас у нас есть, по крайней мере, сжиженный природный газ. Такие страны как Катар, Соединенные Штаты, Австралия являются пионерами в этой области: природный газ, сжиженный при температуре -160 градусов по Цельсию, хранится в цистернах в виде жидкости, а потом может быть опять возвращен в газообразное состояние. Поскольку сжиженный газ можно перевозить на кораблях, получить его можно от любого поставщика. Так что вполне логично, что ЕС поддерживает сейчас идеи строительства терминалов для такого газа в Роттердаме и Гданьске, поскольку такие поставки требуют соответствующей инфраструктуры.
Но, конечно, есть еще и возобновляемые виды энергии. Интересно, что Британия и Дания вложили колоссальные средства в ветряную энергетику и сейчас получают 20% своей электроэнергии именно от ветра. Если вы бывали в Шотландии или Дании, то знаете, что там почти всегда ветрено, поэтому существуют благоприятные условия для получения такой энергии. Это как солнце в Сахаре. Подсчитано, что если бы мы могли использовать солнечную энергию Сахары, это дало бы около 15% электроэнергии, необходимой Европе.
Большое внимание уделяется и ядерной энергетике. Известно, что один мегаватт атомной энергии эквивалентен 80 тысячам баррелей нефти. Однако проблема ядерной энергетики связана с безопасностью, с утилизацией отходов и подобными вопросами. Но главное даже не это, а то, что этот вид энергии стоит неимоверно дорого! Строительство и эксплуатация современных атомных станций обходится в 5 раз дороже по сравнению с предыдущими. Даже США, которые решили возобновить свою ядерную энергетику, не будут иметь новых АЭС до 2017 года, и хотя в Европе немало говорят об атомной энергетике, ни одна европейская страна, за исключением Финляндии, даже не начала строить новые атомные станции. Так что, даже если мы изберем этот путь, в ближайшем будущем нам это мало чем поможет.
Так почему бы не начать с простого – с того, что не приведет к банкротству? В первую очередь – объединить ветки распределительной сети. Одной из причин того, что болгары прошлой зимой, когда было минус 25 по Цельсию, замерзали в своих квартирах во время газовых споров между Россией и Украиной, было отсутствие соединительной перемычки с румынской или венгерской сетью электропередач. Соединительной линии длиной всего 60 км было бы достаточно, чтобы закачать электроэнергию из соседней страны. Поэтому тот факт, что ЕС уже начал выделять средства на строительство таких линий – это хорошая новость. Несколько лет назад чехи поступили очень предусмотрительно, соединив свою сеть с линией электропередач Германии. Теперь если снабжение их страны будет прервано, они смогут получать электроэнергию из Германии.
Второе – это хранилища. Венгрия оказалась предусмотрительной: инвестировала 800 миллионов долларов в газохранилища и создала резервный запас газа в объеме годовой потребности. Опять же – это то, что должны сделать и другие европейские страны.
Третье, что необходимо сделать, это обеспечить функциональное разделение энергорынка – другими словами – его свободу: чтобы компании могли конкурировать и получать доступ к трубопроводам. Это очень важно, поскольку, если вы контролируете трубопровод, вы и решаете, чей газ в него закачивать. Поэтому рынок должен быть свободным, чтобы европейцы могли покупать газ у поставщика, который предлагает наименьшую цену на основе реальной конкуренции и, в итоге, взаимной выгоды.
У европейцев есть документ под названием «Энергетическая хартия» и можно надеяться, что когда-нибудь его ратифицирует и Россия. И это означает, что если часть моего производства принадлежит тебе, я имею право на владение частью твоего. Если ты хочешь инвестировать в мои компании, должен позволить мне инвестировать в твои. Чем меньше государственной собственности, тем меньше возможностей использовать энергоресурсы как инструмент политического шантажа.
Но в краткосрочной перспективе самый эффективный способ – это экономия. Это как с диетой: лучший способ быстро избавиться от лишнего веса – это меньше есть. Так что если мы хотим обеспечить энергетическую безопасность, нам придется научиться потреблять меньше энергоресурсов.
А пока мы их транжирим в огромном количестве. Мне рассказывали, что электрическая лампочка старого образца использует только 4% подающейся на нее электроэнергии. Остальное просто тратится зря. А еще недавно рассказали, что, оказывается, в следующие 30 лет китайцы построят столько же объектов недвижимости, сколько сегодня имеют США! А теперь представьте, что все эти здания не будут соответствовать необходимым экологическим стандартам: не будет соответствующей теплоизоляции, использования солнечной энергии, эффективного энергосбережения… Только представьте себе масштабы энергетического расточительства в таком случае!
Ну и, наконец, насколько все это актуально конкретно для НАТО? Исходя из того, что я рассказал, вы, возможно, сделаете вывод, что не очень, поскольку речь идет о политике по изменению климата, об энергетической, промышленной политике и так далее. Но тут есть еще один аспект – защита инфраструктуры жизнеобеспечения. Современная мировая торговля энергоресурсами связана с перевозками на большие расстояния. Сжиженный природный газ и нефть перевозят танкерами; Америка уже завозит нефть из Нигерии, а не из Техаса, Индия получает уголь из Мозамбика, Китай ищет нефть в Судане…
Индийский океан превращается в Атлантику XXI века: через него проходит 90% объема мировой торговли; 65% нефти; узкие места водных коридоров перегружены, например, Ормузский или Малаккский проливы, через которые ежедневно проходит 20% мировых грузов. Поэтому эти транспортные коридоры являются очень важными геостратегическими объектами. Если мы допустим, чтобы их перекрыли, то это будет, перефразируя высказывание Энтони Идена во время Суэцкого кризиса, все равно что «позволить, чтобы нас схватили за горло».
Поэтому защита гражданской инфраструктуры приобретает особое значение. В прошлом террористы уже нападали на нефтяные танкеры в Персидском заливе; в 80-х, во время войны между Ираком и Ираном, 150 нефтяных танкеров подверглись ракетным ударам в Персидском заливе. К счастью, немногие из них получили серьезные повреждения, но все равно…
В дельте реки Нигер участники местного «Движения за освобождение дельты Нигера» совершали нападения на буровые и на персонал компании Шелл. Я уже даже не говорю о пиратстве, которое, как правило, не связано с терроризмом: это способ заработка, но были случаи, когда пираты захватывали нефтяные танкеры, в результате чего резко поднималась цена страховки нефтяных танкеров, проходящих через Аденский пролив.
Так что, я считаю, что Альянс может быть полезным в вопросах защиты инфраструктуры жизнеобеспечения. Мы можем использовать опыт наших военно-морских сил и поддержку стран-партнеров, чтобы предотвращать возникновение проблем, а также реагировать на катастрофы и чрезвычайные ситуации. Это станет особенно актуальным через несколько лет, поскольку северо-западный проход позволит сократить продолжительность прохождения маршрута до Токио на 2 недели, и нефтяным танкерам, которые пойдут этим курсом, может потребоваться помощь, если они попадут в опасность в дрейфующих льдах Арктики. В таких случаях военные со своими вертолетами, патрульными самолетами базовой авиации и кораблями, безусловно, пригодятся.
Итак, можем ли мы обеспечить энергетическую безопасность? Да. Но для этого необходимо выполнить пять условий: первое – избежать чрезмерного влияния геополитических факторов, которое имело место в прошлом. Мы должны отказаться от грабительской погони за энергоресурсами, отказаться от тактики, которую использовали колониальные государства ХІХ столетия в Африке – все спешили поскорей застолбить свою территорию, пока еще не всё расхватали.
Энергоресурсов хватит на всех, если делить их как общее достояние, а не пытаться монополизировать для собственных потребностей, лишая других доступа к ним.
Во-вторых, слишком много энергоресурсов тратится зря; нужно быть экономнее. А это, очевидно, означает, что цена должна возрасти, поскольку одним из способов заставить людей пользоваться чем-нибудь экономно является повышение цен.
В-третьих, мы должны защищать инфраструктуру жизнеобеспечения и находить возможности сотрудничества в этой области с такими странами как Россия, Китай, Индия, а также с морскими государствами, которые могли бы защищать танкеры в океанских акваториях.
Четвертое: для обсуждения этого вопроса мы должны привлечь в Международное энергетическое агентство не только потребителей, но и производителей, таких как Россия, Саудовская Аравия, Катар, а также некоторых потребителей за пределами Запада, таких как Индия и Китай. Чтобы не получилось, что с одной стороны только интересы потребителей, а с другой – только производителей, и все это перерастает в конфронтацию или напоминает диалог глухих. Нам всем нужно быть реалистами, в конце концов.
Вы можете не любить Королеву Нефть, но Королева Нефть любит вас. И она будет править еще долго, даже если появятся программы интенсивных капиталовложений в возобновляемые виды энергии: этанол, энергию солнца, ветра или что-нибудь подобное. Поэтому, нравится это нам или нет, мы будем зависеть от целой группы нестабильных, недемократических регионов и нам придется уделять большое внимание не только приобретению нефти по приемлемым ценам, но и тому, как помочь им управлять нефтяными ресурсами в интересах развития этих регионов и сохранения в них политической стабильности.
Благодарю за внимание.
-- Вы говорили о погоне за энергоресурсами и сказали, что этого нужно избегать. Не считаете ли вы, что сейчас подобная погоня ведется такими странами как Индия и Китай, особенно в Африке? Считаете ли вы это проблемой? И если да, то как ее можно решить?
-- Да, вы правы. Приблизительно 10 лет назад китайские инвестиции в Африке составляли меньше 2 миллиардов долларов. Сегодня же они значительно превысили 100 миллиардов и продолжают стремительно расти. (Так что вы, действительно, правы).
…Мы должны избегать двух возможных ситуаций. Первая – это когда получение энергоресурсов из какой-нибудь страны настолько важно, что мы игнорируем ситуацию с правами человека в этой стране. Показательным примером является Судан: мы закрываем глаза на все нарушения; международное сообщество разделилось и правительства таких стран как Судан не чувствуют никакого давления, которое подтолкнуло бы их к либерализации, поскольку они могут продавать свою нефть без каких-либо предварительных условий. В таких ситуациях очень важно отстаивать коллективную позицию.
Я думаю, что поскольку эти вопросы активно обсуждается, Китай в последнее время стал понимать необходимость сделать политическое заявление Судану; что как член Совета безопасности ООН и как страна, влияние которой стремительно возрастает, Китай не может оставаться в стороне от этих процессов. Так что это уже добрый знак.
Во-вторых, нам, безусловно, необходим диалог. Именно поэтому я сказал, что в Международном энергетическом агентстве должны быть представлены большие страны-потребители, чтобы избежать проявлений монополии. Если будет свобода энергетического рынка, если будет возможность свободно покупать и продавать, то энергоресурсов должно хватить и хватит на всех. Из-за изменений климата нам, рано или поздно, все равно придется отказаться от ископаемых видов топлива и найти более эффективные способы производства альтернативных энергоресурсов.
Например, литиевые аккумуляторы для автомобилей. Я считаю, что лет через 10 они появятся. Гибридный автомобиль – Prius – уже существует. Так что еще лет 10 и электромобиль станет реальностью. Поэтому я не вижу никаких оснований для того, чтобы в отдаленном будущем полмира было бы обеспечено энергоресурсами, а остальные полмира – нет. Но тут очень важно вести диалог.
К тому же необходимо, чтобы деньги, которые вкладываются в Африку, действительно приносили пользу народу Африки, а не оседали в швейцарских банках на счетах чиновников правящих режимов. А так огромное количество этих инвестиций растрачивается, почему я и вспоминал о «нефтяном проклятье». Деньги вкладываются в престижные проекты, которые никоим образом не помогают людям. Они не создают новые рабочие места, а только дают преимущества тому или иному племени или фракции. Поэтому нам нужен хоть какой-нибудь диалог, чтобы вложенные инвестиции были не просто компенсацией за нефть, а служили целям долгосрочного развития конкретной страны. Это мое мнение. Важно также, чтобы, призывая Индию и Китай соблюдать определенные правила, мы бы сами придерживались этих правил и не препятствовали желанию этих стран инвестировать в западные энергетические компании.
Возможно, вы помните, как несколько лет назад Китайская национальная нефтяная корпорация хотела купить нефтяную компанию в Калифорнии. Тогда Конгресс США, сославшись на интересы национальной безопасности, принял постановление, которое сделало это невозможным.
Я думаю, что если мы стараемся убедить Китай, Индию и другие страны в необходимости свободного рынка, мы должны позволить им инвестировать в наши компании, в соответствии с общими правилами прозрачности, а они, в свою очередь, должны нам позволить делать инвестиции в их компании. Таким образом, мы могли бы, насколько это возможно, выводить энергетическую отрасль из государственного сектора и постепенно переводить ее на частный рынок. А для частного владельца прибыль будет достаточным стимулом, чтобы разрабатывать необходимые технологии и находить капитал для освоения новых месторождений.
-- Что вы думаете о ядерном синтезе, в частности, в рамках проекта ИТЭР на юге Франции?
-- Я не специалист в этом вопросе. Мой шурин – физик-ядерщик, наверное, мне нужно было бы пригласить его сюда сегодня…
Я знаю, что сейчас говорят о новой технологии – холодном ядерном синтезе, которая, кажется, открывает большие перспективы, если ученым удастся завершить ее разработку. Я только могу сказать, что когда речь заходит об атомной энергии, мы должны отличать ажиотаж вокруг этого вопроса, всякие завышенные ожидания, от реальности, в которой создание атомных электростанций третьего поколения является чрезвычайно сложным делом.
Как вам известно, у Франции есть значительные достижения в ядерных разработках и она продает ядерные проекты за рубеж. Уже несколько лет одна французская компания разрабатывает такой проект в Финляндии. Но они существенно отстают от графика именно потому, что в таких проектах чрезвычайно сложно обеспечить правильное решение всех технологических задач. Если среди таких проектов вы мне приведете пример хотя бы одной атомной станции, строительство которой не отстает от графика хотя бы лет на 10, я буду очень удивлен.
Я не говорю «нет» атомной энергии, потому что если мы стремимся к производству энергоресурсов без СО2, атомная энергетика дает нам колоссальные возможности, но мы должны быть реалистами.
Частные компании не будут строить АЭС, если не будут получать от своего правительства больших субсидий. Когда таких субсидий нет, частный сектор не очень интересуется подобными проектами. Показательно, что в последние годы частный сектор вложил вчетверо больше средств в ветряную энергетику, чем в ядерные проекты, которые не поддерживались субсидиями.
Так что я считаю, что атомная энергетика – это вопрос отдаленного будущего, когда будут решены вопросы технологии, потерь энергоресурсов, управления себестоимостью, защиты АЭС от террористических нападений, а главное – как я уже говорил в первой лекции – когда будет новый Договор о нераспространении ядерного оружия, который даст гарантии, что новые реакторы не позволят таким режимам, как иранский или в северокорейский перерабатывать собственное топливо, обогащать собственный уран или плутоний и создавать собственные бомбы. Это серьезная проблема – как предотвратить использование мирного атома в военных целях?
Думаю, для решения всех этих вопросов понадобится время. Поэтому и считаю, что ядерная энергетика -- это дело отдаленного будущего, и я не думаю, что она станет панацеей в ближайшие 10-20 лет.
-- Я хотел бы вернуться к вашему заключению о том, что мы должны пользоваться энергией эффективнее или меньше ее потреблять. Во всем мире при выработке энергии из ископаемых видов топлива коэффициент эффективности составляет 30-32%, а при использовании новейших технологий этот показатель приближается к 60%. Таким образом, используя современные технологии, можно получить почти вдвое больше энергии с каждого галлона нефти или кубометра газа. Это колоссальный потенциал. Европейский Союз ежегодно тратит 700 миллиардов евро на импорт ископаемых видов топлива. Это гораздо больше, чем стоимость программы экономического возрождения США, и ведь это ежегодные траты! Так что, благодаря повышению эффективности, в частности, в производстве энергии, можно сэкономить немалые средства, а также значительно уменьшить загрязнение окружающей среды и решить много вопросов, связанных с безопасностью.
-- Да… Судя по вашему вопросу, вы, очевидно, специально изучаете эту тему. В ответ могу сказать, что мы действительно можем многого достичь, если хотя бы в строительной промышленности обеспечим соответствие стандартам теплоизоляции, установки солнечных батарей, ночного накопления электроэнергии -- чтобы она не тратилась зря, а могла быть использована на следующий день – и так далее.
Я уже говорил – я не специалист по техническим вопросам, но убежден, что при правильном управлении строительной промышленностью можно многого достичь. Я уже упоминал Китай в этой связи…
Кстати, в Америке во время газового кризиса, наступившего после 4 арабо-израильской войны, Джимми Картера высмеяли, когда он предложил американцам поменьше пользоваться отоплением и надеть свитера. Над ним насмехались, но, честно говоря, это был не такой уж и плохой совет, если подумать о том, что в такой ситуации каждый может сделать лично.
Нужно также развивать сеть общественного транспорта, которая дала бы возможность путешествовать скоростными поездами. На единицу расстояния они потребляют только одну пятую энергии, которую тратит самолет. Это уже экономия! Также лучше по возможности использовать общественный транспорт, а не частные автомобили. Конечно, все это не ново, об этом говорят уже давно.
Европейский Союз даже принял директиву по поводу электрических лампочек нового типа, которые работают намного дольше, а потребляют значительно меньше электроэнергии, чем старые. То есть, речь идет об очень простых вещах.
Подобные вопросы нужно рассматривать в комплексе. Среди решений, которые, я считаю, были ошибочными, была и начальная политика ЕС по биологическим видам топлива, в частности, по этанолу, помните?
Несколько лет назад мы хватались за газ, а теперь за этанол, как за альтернативу автомобильному бензину. Но что выяснилось при тщательном анализе? Прежде всего, выяснилось, что старые виды этанола, которые производятся из кукурузы, а не из трав, на самом деле выбрасывают в атмосферу больше СО2, чем ископаемые виды топлива.
Во-вторых, фермеры, стремясь получить субсидии (по крайней мере, в Соединенных Штатах) стали внезапно переключаться на выращивание кукурузы для производства этанола. А пищевая промышленность из-за этого потеряла немало запасов кукурузы, цены поднялись и даже были голодные бунты. Речь идет не только о Европейском Союзе и США…В районе Амазонии решили: цены на кукурузу растут, давайте рубить леса!
В одной из предыдущих лекций я говорил, что леса Амазонии поглощают около 20% мирового объема СО2. Поэтому действительно глупо выбрасывать в атмосферу еще больше углекислого газа от этанола и в то же время вырубать леса, которые поглощают СО2. И все ради того, чтобы произвести еще больше этанола. К тому же, цена бака этанола для автомобиля серии BMW 5 составляет сумму, за которую одного из голодающих в Африке можно было бы кормить целый год.
Я нашел статистику, которая говорит о том, что даже если бы США использовали все свои угодья для производства этанола, то за год они получали бы только одну пятую годового объема топлива, которое американцы используют в виде бензина. Позднее ЕС признал, что производство этанола из кукурузы не решает проблему, и изменил свою политику.
Я не утверждаю, что другие виды этанола – те, что производятся из целлюлозы – не могут быть эффективными, но это показательный пример того, как мы иногда думаем, что нашли панацею и хватаемся за нее, не понимая, что наши действия могут иметь экономические последствия для пищевой промышленности, для экологии, для других аспектов нашей жизни. Поэтому важно, чтобы все эти факторы учитывались в комплексе.
Ибо самый перспективный подход – это диверсификация на основе нескольких альтернативных решений, а не одного. Прошу вас…
-- Я хотел бы остановиться на двух вопросах. Вы только что сказали, что Китай импортирует значительные объемы нефти. Это соответствует действительности, но, пожалуй, только частично, поскольку Китай все еще полагается, в основном, на уголь. Правда, что он импортирует нефть и чем дальше, тем больше. Я не специалист по энергетике и у меня нет соответствующей статистики, но, насколько мне известно, сегодня уголь составляет около 90% общего энергопотребления в стране. Это первое.
Второе: вы упомянули инвестиции Китая в Африку, точнее – в нефтяную промышленность некоторых африканских стран. Это правда. Но по сравнению с западными странами африканские инвестиции Китая не очень значительны. К тому же, это делается на основе равноправия, взаимного уважения, взаимной выгоды и, таким образом, служит интересам всего мирового сообщества, поскольку, как я уже сказал, большинство нефтепродуктов Африки продавалось китайским компаниям на мировом рынке. Поэтому я считаю, что это способствовало стабилизации рынка, разве нет?
-- Спасибо, это очень хороший вопрос.
Что касается Китая, то сегодня он импортирует около 50% своей нефти, но учитывая количество его населения и стремительные темпы развития, можно прогнозировать рост этого показателя. Вы правы: уголь – это важный фактор, поскольку в Китае много угля. Я думаю, на данном этапе уголь остается главным источником электроэнергии в мире, в том числе и в США, которые владеют самыми большими запасами угля в мире.
…Моя страна – Великобритания – тоже полагается на уголь.
…Или Восточная Германия во времена холодной войны. Помните, сколько вреда окружающей среде Восточной Европы нанесло сжигание лигнита – бурого угля?
Так что уголь – самый мощный загрязнитель. В этом смысле среди ископаемых видов топлива уголь занимает 1 место, нефть – где-то посередине, а природный газ – загрязняет меньше всего. Я думаю, одной из самых сложных задач, которые будут обсуждаться в Копенгагене, будет поиск технологий, позволяющих осуществлять секвестрацию углекислого газа, образующегося при сжигании угля, а также улавливание и хранение СО2, что препятствовало бы его попаданию в атмосферу. Конечно, все это связано с тем, сколько денег – 10 миллиардов в год или 20 миллиардов – развитые страны готовы дать развивающимся для приобретения технологий каптажа и захоронения углерода. Этот вопрос будет иметь большое значение. Возможно, вы знаете ситуацию лучше меня, но статистика говорит, что в следующие 20 лет Китай планирует построить 550 новых электростанций, работающих на угле, а это, потенциально, означает большие объемы СО2.
Не знаю, слушали ли вы Би-Би-Си на прошлых выходных (возможно, вы покупали подарки к Рождеству или были заняты чем-то более приятным)… Передавали цикл передач бывшего директора организации Гринпис Джонатана Поррита под названием «Может ли Китай стать зеленым?»
Он представил достаточно оптимистическую картину и подчеркнул, что сейчас Китай весьма серьезно относится к проблеме изменения климата. На встрече в Копенгагене, как вы знаете, Китай взял на себя соответствующие обязательства.
Сегодня Китай занимает 1 место в мире по уровню инвестиций в солнечные батареи, его компании находятся среди лидеров производства солнечных батарей, и так далее. И вообще, эта страна (особенно в строительной отрасли) ответственно относится к необходимости сокращения выбросов СО2. Автор передач представил это как интересное сочетание 2 тенденций: с одной стороны – стремительное экономическое развитие Китая, значительное увеличение потребления угля, нефтепродуктов, горючего и газа, а с другой – понимание того, что хозяйствовать нужно по-новому: нужно применять новые технологии, сокращать выбросы СО2 и так далее. Он сказал, что это как «инь» и «янь» -- две противоположности, и от того, какая тенденция победит в ХІХ веке, от того, как Китай урегулирует эти вопросы во многом будет зависеть не только будущее этой страны, но и решение глобальной проблемы изменения климата.
Что же касается Африки – вы правы. Я уже говорил о так называемом «нефтяном проклятии». Мы знаем немало стран, которые получают фантастические доходы от нефти, но не используют их для модернизации и развития, как можно было бы ожидать. Например, Саудовская Аравия. В 50-ые годы уровень ВВП на душу населения в этой стране был выше, чем в США. Это даже трудно представить! Сегодня ситуация другая. В 50-ые годы во многих странах Ближнего Востока уровень ВВП на душу населения был вчетверо - впятеро выше, чем в Южной Корее, а сейчас наоборот…
Мы наблюдаем, как страны, в которых нет природных ресурсов, развивают сферу услуг, промышленность, профессиональные навыки населения и создают рабочие места так, как это не смогли сделать страны, которые имели возможность использовать нефть как источник финансирования своего непомерно раздутого государственного сектора. А когда цены стали нестабильными, экономические взлеты в этих странах стали перемежаться спадами и социальной нестабильностью.
Сейчас на рынок выходит несколько новых стран. Например, Судан, Гана, где недавно открыли огромные нефтяные месторождения, Бразилия, которая тоже открыла большое месторождения в прибрежной зоне. Пойдут ли они таким же путем, как, например, Норвегия, которая использовала очень большие объемы своей нефти и газа для создания специального фонда для будущих поколений и использует его только по целевому назначению – для развития страны? Итак, вопрос, который сейчас стоит не только перед Китаем, но и перед Мировым банком, Организацией Объединенных Наций, перед всеми нами – что можно сделать, чтобы побудить страны использовать средства для долгосрочного развития, вместо того, чтобы тратить колоссальные деньги на вооруженные силы, на «проекты престижа» и на коррупцию, в то время как большинство населения не чувствует значительного улучшения качества жизни.
Как убедительно показал опыт компании Шелл в дельте Нигера, нефтяные компании должны брать на себя больше ответственности перед населением регионов, где они разрабатывают месторождения. Это касается охраны окружающей среды, социального развития местных общин и так далее… Отсутствие такой ответственности привело к ситуации, когда местные жители подняли восстание: похищали сотрудников компании, повреждали трубопроводы, нападали на буровые и вообще старались создать как можно больше трудностей компании. Это очень серьезная проблема, я считаю.
…Хочу от души поблагодарить вас за внимание. Приближается Рождество, и вы сможете отдохнуть от меня и от университета… А для тех, у кого хватит стойкости пройти этот курс до конца, сообщаю, что в новом году у нас будет еще две – заключительные – лекции: одна о кибер-преступности, а вторая о недееспособных государствах. Будут ли они представлять такую же серьезную проблему в ХІХ веке, как в последнее десятилетие ХХ?
Итак, надеюсь, что после Рождества я еще увижусь хотя бы с некоторыми из вас. А пока желаю вам веселого Рождества и счастливого Нового года! Еще раз спасибо.