Это очень своевременная книга. По окончании «холодной войны» интерес к сдерживанию пошел на убыль, однако из-за более нестабильных условий безопасности сдерживание вернулось на авансцену. А что такое сдерживание на самом деле?
Deterrence in the 21st Century – Insights from Theory and Practice («Сдерживание в XXI веке: теория и практика») (свободная загрузка) под редакцией Франса Осинги и Тима Свейса – выпуск Нидерландского ежегодного обзора военных исследований за 2020 год. В 26 главах и более чем на 500 страницах авторы рассматривают концепцию сдерживания со всех мыслимых – и порой немыслимых – ракурсов. С учетом объема и охвата этого тома в данной рецензии мы сосредоточимся на тех авторах, которые представляют наибольший интерес с точки зрения НАТО.
В своем трезвом введении сэр Лоуренс Фридман, ветеран исследования сдерживания, утверждает, что сдерживание эффективнее всего, когда существуют четкие красные линии, когда на карту поставлены жизненно важные интересы и известны силы и средства. Однако, хотя сдерживание «и впредь будет считаться идеальным ответом на большинство видов угроз безопасности», Фридман намного менее уверен, когда речь идет о сдерживании в «серой зоне».
Но авторов это предупреждение не испугало, и утверждая, что они закладывают основу для новой волны исследования сдерживания, они приступили к изучению сдерживания от сердцевины до внешней оболочки, и в основном, им это удалось.

Профессор, д-р наук Франс Осинга (справа) вручает от имени оборонной академии Нидерландов экземпляр ежегодного обзора NL ARMS 2020 министру обороны Нидерландов Анк Бийлевельд (слева) во время презентации книги 28 января 2021 года. В центре – соавтор Осинги д-р наук Тим Свейс. © Asser Institute
Понять азы
В первой главе Майкл Мазарр, «РЭНД корпорэйшн», разъясняет азы сдерживания, делая особый упор на необходимости понять точку зрения противоположной стороны, и сосредоточиваться не только на выдвижении угроз, но и на предоставлении заверений.
Стен Риннинг, Южный университет Дании, анализирует переориентирование НАТО на сдерживание России после Крыма – переориентирование, при котором, в силу довольно скромного развертывания сил НАТО в Восточной Европе, упор делается на сдерживании посредством наказания, а не сковывания действий. Риннинга в меньшей мере беспокоит структура сдерживания НАТО, нежели то, что в его понимании является ограниченной способностью НАТО к распознаванию «характера и намерений соперника». С точки зрения Риннинга, НАТО продолжает – ошибочно – культивировать образ России как трудного партнера, а не угрозы.
Аналитик «РЭНД» Карл Мюллер изучает различные подходы к сдерживанию обычными средствами, утверждая, что это и впредь будет одним из основных инструментов предотвращения войны. Мюллер не согласен с теми, кто утверждает, что ядерное оружие пришло на смену сдерживанию обычными средствами. Ведь поскольку угроза ядерного оружия не была достоверной, кроме как при самых экзистенциальных обстоятельствах, продолжались основательные инвестиции в сдерживание обычными средствами.
Алексея Арбатова, Институт мировой экономики и международных отношений (Москва), тревожат присущие ядерному сдерживанию «тенденции к саморазрушению», например, постоянный поиск новых технологий, таких как гиперзвуковые ракеты, что ведет к сокращению срока оповещения и могло бы подорвать стратегическую стабильность. Он также подвергает критике концепции ограниченной ядерной войны, призванные контролировать ущерб даже после начала нанесения ядерных ударов.
Арбатов также обеспокоен тем, что в будущем нельзя будет провести различие между новыми ядерными и неядерными системами оружия, в результате чего другая сторона будет исходить из наихудших предпосылок, то есть, считать, что речь идет о ядерном заряде, и будет реагировать соответствующим образом. Он также отмечает параллели в американском и российском мышлении относительно непрерывной важности ядерного оружия. Он призывает по-новому подойти к контролю над вооружениями, так чтобы учитывать потенциально дестабилизирующие новые технологии.
Аналитик Массачусетского технологического института Пол ван Хоофт подробно рассматривает «расширенное сдерживание», а именно «ядерный зонтик», которым США прикрывают своих союзников. Особенно интересно сравнение требований в ядерной сфере на европейском и азиатском театре, которое он делает, равно как и его анализ проблем внушительности самой концепции расширенного сдерживания. Однако из-за того, что он делает акцент на военных силах и средствах в ущерб политике, его анализ чрезмерно пессимистический, тем более что ему трудно сформулировать жизнеспособные альтернативные варианты. Расширенное ядерное сдерживание может показаться хрупким в теории, однако на практике выглядит довольно неплохо.
Йорг Нолл, Осман Боянг и Себастиаан Ритьенс, Оборонная академия Нидерландов, рассматривают, как силы и средства сдерживания, обеспеченные усиленным присутствием НАТО в передовом районе, воспринимаются тремя государствами Балтии.
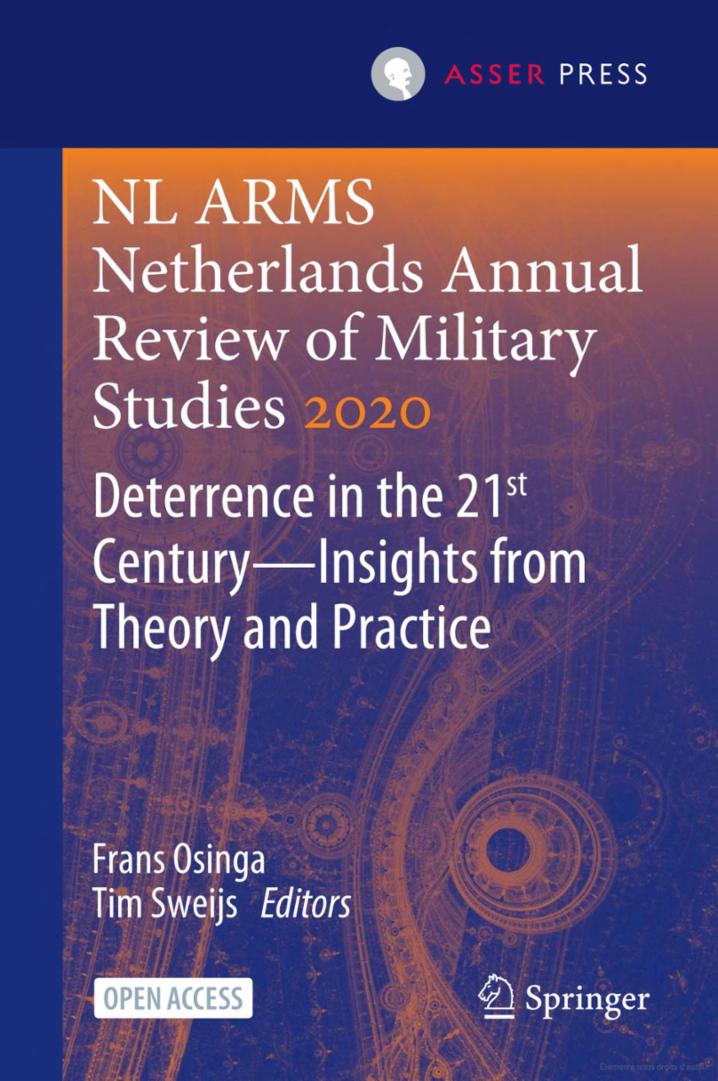
Бесплатная загрузка здесь.
Они используют концепцию «стратегической культуры», чтобы показать, «почему на первый взгляд Эстония и Латвия довольны недавней стратегией НАТО, но «тайно» склоняются к сдерживанию посредством сковывания действий, и почему Литва в гораздо большей степени воспринимает стратегию НАТО и свою собственную стратегию как сдерживание посредством сковывания действий».
Читатель может задаваться вопросом, насколько важны эти различия на практике, ведь главный вопрос – что сдерживает Россию, однако по мнению авторов, это важно: «… НАТО… должна более четко определить свою стратегию. Различное восприятие, причем не только в принимающих странах, указывает на разные позиции внутри НАТО. Это ставит под угрозу солидарность и приверженность делу Североатлантического союза». Это не-вывод, вытекающий из не-анализа. Тем самым подтверждается то, о чем предупреждал создатель термина «стратегическая культура» Джэк Снайдер: эту концепцию нужно считать только «крайним объяснением».
Новая волна исследования сдерживания?
В главе, которая явно стала важнейшей в этом сборнике, Тим Свейс, Гаагский центр стратегических исследований, и Самюэль Цилиник, Университет им. Масарика, представляют всеобъемлющий обзор сквозного сдерживания, то есть, применения угроз в одной области в целях сдерживания действий в другой. Как утверждают авторы, настала новая волна исследования сдерживания, и, по их мнению, «сдерживание теперь означает не только страх или способность убедить противников воздерживаться от определенного поведения».
Авторы стремятся переосмыслить концепцию сдерживания: «речь идет о том, чтобы разубедить, но также о том, чтобы убедить, вместо того, чтобы устрашить». Данная расширенная концепция сдерживания «подразумевает более широкий диапазон инструментов, как военных, так и невоенных, которые могут быть использованы и как кнут, и как пряник, чтобы вынудить и устрашить, чтобы убедить и разубедить, что возвращает к более широкой литературе о дипломатии принуждения, где концепция изначально сформировалась».
Увы, авторы не указывают на то, что какие-либо из этих концептуальных «доводок» эффективны в деле. Простое перечисление множества действий или сочетания действий, таких как установление вины, санкции или кибератаки, которые могли бы быть предприняты государством для разубеждения противника, чтобы тот не делал того, чего вам бы не хотелось, не равноценно эффективному устрашению или сдерживанию. Как раз наоборот, в действительности решительно настроенные гибридные агрессоры доказали, что на них не действуют меры разубеждения, предпринимаемые обороняющейся стороной. Почему? Потому что их расчеты затрат и выгоды не соответствует ожиданиям Запада, и потому что многие меры разубеждения, перечисляемые авторами, практически невозможно последовательно применять на практике.
Поэтому, если новая волна исследований сдерживания хочет быть чем-то большим, чем преходящей модой, недостаточно будет лишь придумать новую терминологию, например, «устрашение силками» или растянуть термин сдерживание, так чтобы он вобрал в себя что-то, что к нему не относится, например, «убеждение». И тем не менее каждый, кто хочет узнать больше о будущем исследования сдерживания, должен обязательно прочитать эту главу.
Сдерживание «а-ля рюз»
В главе, посвященной России, Дмитрий Адамский, Университет Герцлия, отмечает, что Россия понимает сдерживание намного шире, чем Запад. «Сдерживание «а-ля рюз» (хитростью) означает использование угроз, иногда вместе с ограниченным применением силы, чтобы сохранить статус кво («сдерживать» в понимании Запада), изменить его («вынудить» в понимании Запада), формировать стратегическую обстановку, где происходят действия, не допустить эскалации и перейти к деэскалации во время борьбы».
Как утверждает Адамский, после распада СССР в 1991 году Россия разработала теорию обеспечения регионального сдерживания ядерными средствами. Затем последовал этап с начала до середины 2000-х, когда российские эксперты делали упор на неядерном сдерживании. Третий и нынешний этап развития теории, призванный соединить два предыдущих этапа, ассоциируется с концепцией «стратегического сдерживания».
Как считает Адамский, речь идет о «совокупности взаимосвязанных усилий по оказанию влияния во всех областях в соответствии с текущим пониманием характера войны в России». Это предполагает не только «демонстрирование способности и решимости использовать ее, … но и реальное применение ограниченных сил, чтобы повлиять на стратегическое поведение противника».
Адамский объясняет эволюцию понимания сдерживания Россией через призму «стратегической культуры» этой страны. И поэтому он предупреждает о неверном восприятии, которое возникнет, если кто-то попытаться объяснить российские концепции с помощью терминологических рамок Запада. Поскольку Россия видит себя в состоянии постоянной борьбы с противниками – и с учетом того, как остро реагирует Кремль на некинетический вызов политической подрывной работы, – Россия могла бы решить применить силу даже в тех случаях, в которых Запад не считал бы это целесообразным.
Более широкие взгляды
Дин Ченг, Фонд «Херитадж», отмечает, что китайский понятийный аппарат сдерживания охватывает как разубеждение, так и вынуждение. Ядерное оружие играет важную роль в данной стратегии. Хотя ядерный арсенал Китая меньше ядерных арсеналов США и России, он больше чисто минимального сдерживания. Ченг также разъясняет «космическое сдерживание», экономические средства сдерживания и «информационное сдерживание», то есть, вынуждение противника отказаться от сопротивления за счет показа информационного преимущества или изложения устрашающей (принудительной) информации.
Эйтан Шамир, Центр Бегин-Садата, исследует проблему сдерживания насильственных негосударственных субъектов и приходит к выводу о том, что в отличие от ядерного сдерживания теория идет за практикой. Сдерживание насильственных негосударственных субъектов можно сравнить с «устрашением преступности и после проб и ошибок удалось разработать и усовершенствовать успешную практику [например, целенаправленные меры против руководства групп или потока наличности, или проведение скрытных операций], прежде чем она была оформлена как концепция».
Некоторые статьи в этом сборнике несколько не сочетаются с остальными. Например, Сеес ван Доорн, резерв СВ Нидерландов, и Тео Бринкель, Лейденский университет, анализируют сдерживание в контексте сбитого в июле 2014 года над Украиной малазийского авиалайнера, выполнявшего рейс MH17. В результате своего интересного ситуационного исследования авторы приходят к выводу о том, что, несмотря на массированную российскую дезинформационную кампанию, Нидерланды хорошо справились с ситуацией и голландское население проявило устойчивость перед лицом российской пропаганды.
Однако их вывод о том, что ситуация с рейсом MH17 является «прекрасным примером того, как жизнестойкое общество может удержать какого-либо игрока от проведения эффективных подрывных кампаний», – очевидный пример аналитической натяжки. Тот факт, что общество не поддалось довольно неуклюжей российской дезинформационной кампании, не является гарантией успешного сдерживания очередной кампании. Жизнестойкость общества важна, но если снова произойдет аналогичная трагедия, удастся ли на деле устрашить Москву, так чтобы она не пыталась выкрутиться с помощью лжи?
Главы, посвященные Израилю, Японии, Индии и Пакистану, Ирану и Сирии, а также сдерживанию при проведении противоповстанческих действий и операций по поддержанию мира еще больше расширяют диапазон тем. Главы об адресных санкциях как средствах сдерживания, кибернетическом сдерживании, искусственном интеллекте и другие наработки по психологическим аспектам сдерживания завершают этот внушительный сборник.
Несмотря на то, что при прочтении некоторых слишком сложных работ, включенных в сборник «Сдерживание в XXI веке», вспоминаются слова американской песни кантри «не пытайся перемудрить здравый смысл», это основательный труд для постижения основ сдерживания и наводящий на размышления вклад в эволюцию исследования сдерживания.
