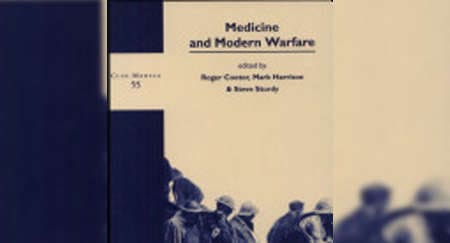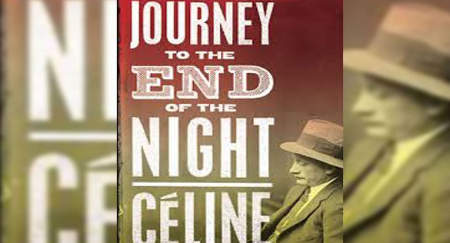Как сказал Гиппократ, «война – единственная настоящая школа для хирурга». До сих пор ведутся споры вокруг того, насколько война и медицина повлияли друг на друга. Одна из самых важных книг о роли медицины в ведении военных действий – «Медицина и современные военные действия» – была опубликована в 1999 году, на заре XXI века.
В книге «Медицина и современные военные действия» подробно рассказывается о различных феноменах в сфере медицины, происходивших на различных театрах военных действий: от «медикализации» военных действий до «милитаризации» медицины. Книга сохраняет свою актуальность по сей день, поскольку она развенчивает ряд избитых мнений касательно войны и венерических болезней, войны и травмы, внося таким образом вклад в будущие исследования на тему истории и травмы.
В исследовании «Секс и гражданин-солдат», вошедшем в книгу, развивается идея войны как социального кризиса. Хотя автор соглашается с традиционным взглядом о том, что со Второй мировой войной наметилась некая либерализация в отношении к болезням, передающимся половым путем, в книге утверждается, что влиятельные круги британского общества стремились установить контроль над телами британцев (особенно вооруженными силами и проститутками) во имя здоровья, демократии и гражданской добропорядочности. Заражение венерическими заболеваниями изображалось не как проступок перед Богом, а скорее как проступок перед Государством.
Секуляризация контроля над венерическими болезнями во время Второй мировой войны стала кульминацией тенденции, наметившейся уже в Первую мировую войну. В результате того, что британские военнослужащие не воспользовались советами по гигиене, британские ВС и ВС союзников изменили свою политику после 1942 года. Армейские публичные дома были закрыты, а посещать гражданские военнослужащим было запрещено. Однако, в отличие от предыдущих конфликтов, военачальников коалиции больше всего беспокоили не военные последствия венерических болезней, а политические и дисциплинарные последствия большого количества венерических инфекций, что очерняло репутацию британцев («британский характер») в стране и за границей.
Первая мировая война привлекла к себе гораздо бóльшее внимание специалистов по истории медицины, чем какая-либо другая война (главным образом в связи с недавним интересом к контузии). Однако исследования о Второй мировой войне довольно редки, и очень мало было написано о медицинских аспектах этой войны после публикации официальной истории в 50-х и 60-х годах. И это несмотря на важный вклад медицины в военную победу. На самом деле развитие и использование новых медицинских технологий во время Второй мировой войны (массовое переливание крови, новые лекарственные препараты и терапия и т.д.) было важным, но не столь значительным, сколь преобразование отношений между вооруженными силами и медициной, когда медицина стала жизненно важным техническим ресурсом.
В главе, посвященной американской психиатрии во время и после Второй мировой войны, автор подчеркивает заметный сдвиг в отношении к психиатрически пострадавшим на войне после 1945 и в начале «холодной войны». Во время войны военнослужащие, страдающие от невроза тревоги и других психических нарушений, связанных с боевыми действиями, лечились у военных психиатров, знакомых с обстановкой на фронте и считавших эту тревогу вполне понятной реакцией на стресс боев. Сегодня мы сказали бы, что эти военврачи на интуитивном уровне знали, что некоторые анормальные формы поведения надо считать нормальными на фоне безумия окружающей обстановки: нормальное безумие перед лицом повредившейся нормальности.
По окончании войны психиатры-психоаналитики, не имевшие опыта боевых действий, связали психические заболевания бывших военнослужащих не с травмой, с которой они столкнулись во время сражений, а с некоей врожденной предрасположенностью к психическим заболеваниям (вину возложили на матерей этих молодых людей, чрезмерно оберегавших своих сыновей и, как утверждалось, подавивших мужское начало в американских мужчинах). Вследствие этого бывшие военнослужащие были лишены возможности высказать пережитое ими на войне.
В качестве наглядного примера серьезных последствий для психически нездоровых людей, лишившихся этой возможности, в книге приводится произведение Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи», в котором солдат Бардамю во время Первой мировой войны не мог выразить ни военным, ни врачам, ни гражданским лицам свою травму, свое несогласие с войной и причиненными ею страданиями. Он не мог этого сделать, поскольку во время войны популяризировались идеи, выдвигавшие на первый план мужскую силу, Отечество и жертвы, приносимые для ведения войны.
Постоянное чувство ужаса, испытываемое Бардамю, не могло найти выражение в этой языковой форме: единственное, что ему оставалось, – молчать и болеть. Сегодня эта медицинская проблема никуда не исчезла. Эпиграф к книге, опубликованной в 2004 году в Нью-Йорке двумя французскими психиатрами Ф. Давуан и Ж.-M. Годийером «History Beyond Trauma», гласит: «То, что нельзя высказать, нельзя замолчать». Вероятно, это помогает объяснить, почему современные исследования недавних войн уделяют бóльшее внимание воздействию посттравматического стрессового расстройства на солдат и ветеранов.